Мирза Каландар Мушриф Исфараги «Шах-Наме (Tapиx-и Oмap-Xaни)»
Ле Гофф. Другое среденевековье. Церковная культура и культура фольклорная в Средние века: св. Марцелл Парижский и дракон
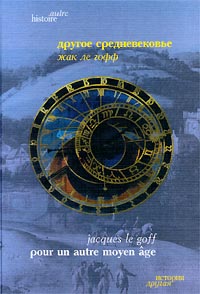
Источник: forum.lirik.ru
Св. Марцелл, парижский епископ в V веке, одолевший судьбу, кажется, вновь впал в безвестность, в которой должен был бы пребывать по своему бедному происхождению. Несмотря на то, что в действительности епископат раннего Средневековья пополнялся за счет аристократии до такой степени, что блестящее происхождение фигурирует в агиографии в качестве общего места, которое авторы «Житий» повторяют без риска сильно ошибиться, даже когда они плохо осведомлены о генеалогии своих героев,— Марцелл Парижский—это исключение.
Поэтому, когда Венаиций Фортунат по просьбе и при жизни св. Германа, парижского епископа, следовательно, до 28 мая 576 года, пишет биографию его предшественника, Марцелла. умершего, вероятно, в 436 году, и поскольку среди редких сведений, им собранных, исключительно устных, упоминается заурядное происхождение Марцелла, Фортунат вынужден воспроизводить становление стези святого по чудесам. Каждый этап церковного восхождения Марцелла сопровождается чудом, и последовательность этих чудес качественно подобна его карьере: каждое превосходит предыдущее. Таким образом, этот текст ценен для понимания психологии чуда меровингской эпохи. Первое чудо, которое возносит св. Марцелла в иподиаконство («Житие», V),— это чудо обыденной жизни и аскетизма: когда один кузнец просит его сказать, сколько весит раскаленный докрасна кусок железа, тот берет его в руку и в точности определяет его вес. Второе чудо («Житие», VI), которое уже приобретает христологический характер, напоминая одно из первых чудес Христа, совершенных до начала проповеди его последних лет, чудо в Кане Галилейской, происходит, когда вода, зачерпнутая Марцеллом из Сены, чтобы дать своему епископу вымыть руки, обращается в вино и увеличивается в объеме так, чтобы позволить епископу причастить всех присутствующих; чудотворец становится диаконом. Третье чудо, которое не знаменует собой качественного сдвига («miraculum secundum online поп honore», «Житие», VII), окружает Марцелла священническим ореолом. Вода, которую по своим литургическим обязанностям он снова протягивает епископу, начинает благоухать, как священный елей. Это делает Марцелла священником. Поскольку епископ, без сомнения, нехотя признает чудеса Марцелла, необходимо, чтобы он получил выгоду от следующего чуда, дабы прекратилась его враждебность или его недоверие. Онемев, епископ обретает дар речи с помощью чудотворной силы своего священника, который признан, наконец, достойным - несмотря на свое темное происхождение — стать его преемником («Житие», VIII). Став епископом, Марцелл совершает великие дела, которые время требовало от своих церковных лидеров, ставших почти повсеместно заступниками за свою паству, он начинает чудесным двойным освобождением: физическом — сбрасывая цепи с арестованного, духовным — снимая грех с этого скованного, который, самое главное, был также и одержимым («Житие», IX).
И вот, наконец, венец поприща св. Марцелла, стези земной и духовной, общественной и религиозной, церковной и чудотворной («Житие», X): «Обратимся к тому триумфальному чуду (таинству), которое хотя и было последним по времени, есть первое по значимости». Чудовище — змей-дракон, ужас окрестных жителей — изгнан святым епископом, который перед лицом народа во время драматического столкновения подчиняет змея своей сверхъестественной власти и заставляет исчезнуть.
Это последнее высокое деяние, воспоминание о котором, как говорит нам агиограф, сохранилось в коллективной памяти. Действительно, в своих сборниках чудес Григорий Турский в конце VI века, чуть позже повествования Фортуната и спустя полтора века после смерти Марцелла, сообщает только об одном этом чуде святого, которому он, впрочем, не уделяет никакого внимания.
Казалось, таким образом открывается прекрасное будущее для культа св. Марцелла. Однако вначале этот культ распространяется на ограниченной территории. В действительности он сталкивается с почитанием других Марцеллов: святого римского папы Марцелла I (вероятно, замученного Максенцием в 309 году) и св. Марцелла из Шалона, чей культ стал конкурентом в том же парижском регионе.
Как представляется, св. Марцелл имел успех как парижский святой. Хотя история его почитания — даже без его легендарного дракона, объекта данного исследования — полна темных мест и легенд, мы знаем, что место действия его последнего чуда стало местом его погребения и местом постройки пригородной церкви, которая была посвящена ему и которая останется в предании «первой церковью» Парижа и даст до наших дней имя одному из самых активных в экономическом и политическом отношении пригородов в истории Парижа — предместью Сен-Марсель. Останки святого, перевезенные в собор Парижской богоматери (когда именно — определить трудно, между X и XII веками), может быть, в связи с эпидемией отравления спорыньей, отныне будут играть наиважнейшую роль в благочестии парижан. В паре с мощами св. Женевьевы (те и другие вывозились только вместе) они вплоть до Великой революции были самыми популярными защитниками Парижа, и даже знаменитые мощи, для которых Людовик Святой воздвигнул Сент-Шапель, оказались неспособны потеснить их в почитании парижан. Став совместно со св. Женевьевой и св. Дионисием покровителем Парижа, св. Марцелл был почтен в Средние века легендарным домом, расположенным на Иль-де-Сите. Вот почему Ле Ней де Тнллемон в XVII веке поражался этому историческому успеху св. Марцелла Парижского. «Ни длительность времени,— писал он,— ни знаменитость его преемников не могли препятствовать тому, что уважение, которое эта церковь (церковь Парижа) оказывала ему, превосходило уважение, оказываемое ею всем другим, и тому, что она признавала его своим первым после св. Дионисия защитником и покровителем».
Тем не менее, возвращение св. Марцелла в почти полное забвение не заставило себя ждать. В XVIII веке его культ померк, и после Революции он стал жертвой прогрессивной культовой чистки, которая в рамках Парижа проявилась в сужении местного пантеона: кончилось тем, что спустя века св. Марцелла затмили св. Дионисий и особенно св. Женевьева. Его дракон, как мы это увидим, стал одной из первых жертв опалы, и с XIX века он редко упоминается среди агиографических и фольклорных драконов, судьбу которых разделял долгое время.
Зачем же пытаться воскрешать его в этом научном эссе? Затем, что его случай, банальный при беглом взгляде на текст Фортуната и посмертную жизнь святого в Средние века, проявляет себя при более внимательном изучении сложным, поучительным и, может быть, образцовым.
На первый взгляд, два аспекта, в которых проявляется дракон св. Марцелла в средневековой истории, не имеют ничего оригинального. В VI веке в своей литературной форме, в тексте Фортуната, он, кажется, является лишь одним из тех драконов, символов дьявола и язычества, которые служат атрибутами многих святых и особенно святых епископов, проповедующих евангелие. Начиная с некоторого времени, вероятно, не раньше XII века, где-то между XII и XV веками, он не более чем прецессионный дракон, с которым почти постоянно проходила Вознесенская литургия.
Однако, может быть, небезынтересно собрать некоторые сведения по этой теме и поставить в связи с ней некоторые вопросы, способные пролить свет на историю благочестия, культуры, сферы чувств в средневековом западном мире, а если точнее, в одной из величайших колыбелей его цивилизации — Париже.
Является ли меровингский дракон св. Марцелла только символом дьявола, в который церковь обратила чудовище, несущее одну из наиболее сложных символических нагрузок в истории культур?
Является ли дракон св. Марцелла классического Средневековья тем же самым, что и его древний предшественник, а значения, с трудом соединявшиеся в нем, не разделяются ли в таком случае, обнаруживая социокультурные напряжения, разногласия, антагонизмы.
Не могут ли эти напряжения быть сгруппированы вокруг двух полюсов: ученой традиции, созданной священниками, которая возлагает на символ дракона роль средоточия сил зла, и «народной» традиции, которая посредством ряда контаминации и метаморфоз сохраняет в нем двойственное значение? Если бы мы могли с вероятностью предположить утвердительный ответ на этот вопрос, структура и кривая развития средневековой культуры смогли бы обрести определенную ясность.
Из богатого текста Фортуната, от которого мы отталкиваемся, мы оставим в стороне элементы, не касающиеся нашего предмета, или сократим их до схематического аспекта, который связывает их с символизмом дракона.
Прежде всего, мы разделим две смешанные здесь темы: тему змея, который пожирает труп нарушившей супружескую верность женщины, и тему дракона, над которым святой одерживает блестящую победу. Первая, небезынтересная, сохранится на протяжении всего Средневековья и станет иконографическим символом сладострастия. Но здесь она связана более или менее искусственно (легендой или литературным мастерством — для нас неважно) с темой убивающего дракона святого. Мы не станем заниматься этим, но будем держать в уме тождественность змея-дракона в двух разных историях.
Мы также не станем заниматься детальным исследованием «парижской древности», в которую этот текст может внести проблески, часто смутные. Традиции пригородной культуры, погребения extra-mums, подтверждаемые археологией и текстами, остаются за пределами нашего разговора. Но болота низменной долины Бьевра, которые являются географической сценой этой битвы, и более того, местный характер приключения дадут нам материал для размышления над интерпретацией этого повествования.
Мы могли бы также изучить историческую композицию и искусную мизансцену этого эпизода, мизансцену, которая посредством обстановки, зрителей, жестов превращает этот бой в удачный фрагмент, которым должны были наслаждаться автор — выходец из Равенны — и читатели, еще тоскующие по цирковым играм и античным торжествам и охотно соглашавшиеся на замену христианским театром. Мы оставим от этой битвы христианских гладиаторов только тот тип отношений, который определяется между святым и чудовищем.
Наконец, мы лишь просим принять к сведению предпринимаемое Фортунатом сопоставление римского эпизода о драконе, укрощенном папой Сильвестром, с парижским эпизодом, рассказанным здесь. Историк национального сознания мог бы, наверное, обнаружить здесь одно из древнейших средневековых проявлений христианско-галльского патриотизма. Эта параллель интересна нам лишь постольку, поскольку она показывает, что автор осознает в определенной мере типический характер и не исключительность истории, которую он рассказывает.
Прежде чем анализировать эпизод с интересующей нас точки зрения — что обозначает дракон в этом тексте? — отбросим сразу же гипотезу, которая делает данное исследование бесцельным: историчность рассказанного эпизода. Если дракон, от которого св. Марцелл избавил парижан, действительно существовал, эти страницы беспредметны. Под драконом мы подразумеваем, конечно же, змею — животное реальное, но достаточно экстраординарное, особенно по своим размерам, чтобы стать в воображении туземцев и их потомков чудовищем, уничтожить которое мог лишь персонаж, наделенный сверхъестественными способностями.
Эта гипотеза, как мы знаем, была выдвинута для всех случаев подобного рода, и дракон св. Марцелла получил даже в Париже (по крайней мере, от духовенства) реалистическую интерпретацию в этом смысле. Действительно, в церкви Сен-Марсель в одноименном парижском пригороде под сводами висело чучело животного — змеи, крокодила или гигантского ящера,— привезенное туда, вероятно, путешествующим уроженцем этого прихода и, очевидно, предназначенное изображать реалистическое, научное воплощение дракона св. Марцелла.
Примем во внимание то, что духовенство Старого порядка одобрило эту сциентистскую интерпретацию, которую должны были воспринять, главным образом, рационалистические мифологи и фольклористы XIX и XX веков; применяя это объяснение среди прочих именно к дракону св. Марцелла, Эузеб Сальверт, чье исследование, первоначально озаглавленное «Легенды Средних веков: чудовищные змеи», переработанное под названием «Чудовищные драконы и змеи, фигурирующие в большом количестве в фантастических или исторических повествованиях», было включено в его произведение «Оккультные науки, или Эссе о магии, чудесах и зеркалах», третье издание которого в 1856 г. имело вступительную статью Эмиля Литтре, одно имя которого выдавало в нем позитивистский дух. Луи Дюмон среди прочих воздал должное этой сциентистской, псевдонаучной теории, которую он называет естественнонаучной и которая может быть распространена, самое большее, только на ограниченное количество легендарных фактов. Чудовищные звери, и особенно драконы, являются подлинно легендарными феноменами. Их научное объяснение не может быть дано в рамках событийного сциентизма. Это факты цивилизации, которые история может попытаться истолковать только при помощи истории религии, этнографии, фольклора. Они восходят к коллективной психологии, что вовсе не означает пребывания вне времени и истории. Но уровень их реальности — это уровень «глубинной психологии» и ритм их хронологической эволюции не совпадает с ритмом традиционной событийной истории.
Первое замечание, на которое наводит текст Фортуната,— это почти полное отсутствие всякой символической интерпретации со стороны автора. Победа святого над драконом имеет материальную, психологическую, социальную, но не религиозную природу. Речь шла о том, чтобы ободрить запутанный народ («perterriti homines», «hinc comfortatus populus»). Епископ появляется здесь в своей земной роли лидера городской общины, а не в своей духовной функции пастыря. Он — защитник народа («propugnaculum patriae»), победитель общественного врага («inimicus publicus»). Его религиозный характер упомянут здесь лишь для того, чтобы провести мысль, дорогую с конца IV века для христианской агиографии: при дезорганизации общественных институтов святой муж («vir sanctus») исправляет их бездеятельность при помощи своего духовного, личного, не государственного оружия, но оружия, находящегося в распоряжении гражданской общины, «arma privata», служащего для защиты «cives» (горожан),— легкого епископского посоха, оказывающегося мощным орудием благодаря материальной трансмутации, порожденной чудесной силой святого («В легком посохе, в котором тяжесть чудотворной силы проявилась»), а слабые пальцы Марцелла оказываются крепкими, как цепи («cuius molles digiti fuerunt catenae serpentis»).
Таким образом, Марцелл, побеждающий дракона, представлен нам в своем гражданском качестве, а не в религиозном. Что касается дракона, его природа в той же мере неясна, в какой природа епископа Марцелла кажется определенной. Он трижды назван «bestia (зверь), что напоминает поединок бестиария, гладиатора, сражающегося со зверями, один раз «belua» (чудовище), что указывает на огромный размер и исключительно дикий нрав животного, четыре раза «serpens» (змей) и один раз «coluber» (червь), что является поэтическим эквивалентом змеи, и только три раза «draco» (дракон). Зато оцениваются некоторые физические особенности чудовища: его величина («змей преогромный» — «serpens immanissimus», «огромное чудовище» — «ingentem beluam», «гигантский исполин» — «vasta mole») и три части его тела: его извилистые изгибы («sinuosis anfractibus») между обеими четко индивидуализированными оконечностями: головой и хвостом, сначала поднятыми и угрожающими, затем опущенными и покорными («cauda flagellante», «capite supplici», «blandiente cauda»). Рассказчик даже останавливается на одной определенной точке тела чудовища — темени, так как именно в этом месте проявляется сила чудесной дрессуры: святой укротитель, трижды ударив зверя по голове своим посохом, покоряет животное, проведя своей епитрахилью вокруг темени («missa in cervice serpentis orario»). Знаменательные детали, поскольку они определяют символизм животного, геральдику его тела и заодно обряд и церемонию укрощения. Мы вернемся к этому.
В повествовании остается одна фраза, которая обязывает нас искать, несмотря ни на что, помимо самой символики животного и его покорения, скрытое значение происшествия, которое было нам описано: «Таким образом, в духовном театре на глазах народа-зрителя он в одиночку сражается против дракона». Представление, которое нам было дано, только повторение другого, несравненно более подлинного спектакля. Оставим материальный театр, чтобы перенестись в театр духовный.
Чем может являться в эту эпоху, в период между смертью св. Марцелла и выходом в свет «Жития» Фортуната, если временно опустить проблему внесения или отсутствия изменении при передачи легенды в период с середины V до конца VI века и при превращении устной легенды в литературную биографию, итак, чем же может являться этот театр и это сражение?
Поскольку произведение Венанция Фортуната восходит к сложившемуся в его эпоху литературному жанру агиографии, следует, прежде всего, отыскать значение битвы с драконом в христианской и собственно агиографической литературе конца VI века. Затем мы попытаемся понять, каким образом это общее место агиографии смогло вписаться в историю, которую Фортунат воспринимает, изучая парижские предания.
Великий источник всей христианской литературы — Библия, в первую очередь поищем здесь драконов или змеев, способных проявляться так же, как драконы. Змеи-драконы многочисленны в Ветхом Завете. Трое из них выделяются: змей-искуситель книги Бытия (3:1-15). Бегемот и Левиафан, к которым Исайя, идентифицирующий их как змеев, относится с большей суровостью (27:1), чем это было сделано в книге Иова (40-41), где им не было дано никакого животного имени. О менее индивидуализированных драконах рассказывается в Псалтыри. Наконец, если евангелия не знают дракона, то Апокалипсис дает ему полный простор. В этом тексте, который предложит средневековому воображению самый экстраординарный арсенал символов, дракон действительно получает интерпретацию, которая будет принята средневековым миром. Этот дракон есть змей книги Бытия, старый враг человека, дьявол. Сатана: «Этот великий дракон, древний змий, которого называют Дьяволом и Сатаной» (12:9). Этот же дракон станет церковным драконом. Отодвинув в тень других драконов, существование которых не оспаривается Апокалипсисом, он становится великим драконом, драконом par excellence, главой всех других — и он есть воплощение всего вселенского зла, он есть Сатана.
В конце VI века становится ли апокалиптическое истолкование дракона обычным для христиан? Обратимся к двум авторам — св. Августину и, хотя и жившему приблизительно полвека спустя после Фортуната, Исидору Севильскому, первому энциклопедисту Средних веков. На самом деле мы могли бы довести этот беглый обзор до Беды, последнего «основоположника» Средних веков, по выражению Ренда, так как клирики до середины VII века остаются в том же культурном мире. Св. Августин уделяет мало внимания дракону. Лишь постольку, поскольку это слово присутствует в Библии, он чувствует себя обязанным в качестве комментатора объяснить его смысл. Он останавливается на драконе главным образом в своих «Комментариях псалмов» («Enarratio in Psalmos»). Ему известно тождество дракон = Сатана, и оно дает ему объяснение псалма 90 (Попирать будешь льва и дракона) и псалма 103 (Этот левиафан, которого ты сотворил играть в нем [море]). Августин ВИДИТ В ЭТОМ драконе «нашего древнего врага». Но в большей степени озадачен он интерпретацией драконов псалма 148. В самом деле, царь Давид, призывая все мироздание славить Господа, приглашает драконов присоединиться к хору славящих: «Хвалите Господа, драконы земли и вы все, из бездны» (Пс. 148:7).
Августин, осознающий противоречие, возникающее, когда приглашение славить Бога обращено к тварям, чья зловредная и мятежная природа известна, выпутывается, объясняя, что Давид упоминает здесь драконов только как самых крупных из земных живых существ, созданных Богом («majora non sunt super terrain» — «больших нет на земле»), и что именно люди, восторгающиеся деяниями Бога, могущего создать существ настолько огромных, приобщают драконов к гимну, который обращает к Господу мир в едином своем существовании. Таким образом, здесь дракон представлен, по существу, в своем реалистическом, научном аспекте — как наикрупнейшее животное.
Без сомнения, комментаторы Апокалипсиса в раннее Средневековье естественным образом пришли к тому, чтобы идентифицировать дракона с дьяволом. Например, Кассиодор, Примазий, епископ Адруметский, умерший в 586 году, и Беда, у которого как раз встречаем двойную идентификацию дьявола со змеем книги Бытия, с одной стороны, и с драконом Апокалипсиса — с другой.
Однако у Исидора Севильского дракон трактуется, по сути, научным образом, не символически. Он «величайший из всех животных»: «Дракон больше всех гадов или даже всех животных на Земле». Две важные детали определяют его повадки: это животное одновременно подземное и надземное, которое любит покидать пещеры, где прячется, чтобы летать по воздуху; его сила сосредоточена не в его пасти, не в его зубах, а в его хвосте. Две научные проблемы занимают Исидора в отношении дракона. Первая — проблема того, что отделяет дракона от родственных животных, в первую очередь от змея. Ответ кажется ясным. Исидор, в основном используя Вергилия, устанавливает различие между змеем (anguis), «ползучий» (serpens) и драконом (draco): змей живет в море, «ползучий» — на земле, дракон — в воздухе. Но тут Исидор сталкивается с другой проблемой — обитания дракона. В самом деле, он не может не знать множества стихий, где обитает и движется дракон, и особенно его связей с водой, которые не проявляются ни в одном из вышеизложенных определений. Таким образом, он подходит к выделению особого типа дракона — морского дракона («draco marinus»).
Зато у Исидора дракон избавляется от моральной и религиозной символики. В одном месте из «Сентенций» (Sententiae, III, V, 28 // PL, 83, 665) он перечисляет животные формы, которые принимает дьявол для воплощения того или иного порока или греха: животного — без уточнения,— когда он делается сладострастием («luxuria»), «ползучего» — когда превращается в алчность или злобу (cupiditas ас nocendi malitia»), птицы («avis») — когда он становится гордыней («superbiae ruina»),— но он никогда не принимает облик дракона. Однако Исидор, подлинный ученый, считается и с другими аспектами образа дракона, мало подходящими, как мы полагаем, для разъяснения текста Фортуната, но очень ценными для связности материала, который мы так стараемся собрать и представить. Исидору известны три других дракона: дракон охраняющий, который следит за золотыми яблоками сада Гесперид; дракон-штандарт, который фигурирует на военных знаках различия и происхождение которого Исидор, вспоминая назначение, придаваемое ему греками и римлянами, возводит к ознаменованию победы Аполлона над змеем Пифоном, кольцеобразный дракон, который, кусая свой хвост, изображает годовой цикл, время в виде круга, время, вечно возвращающееся, и изображение которого в таком виде Исидор приписывает древним цивилизациям и определенно египетской.
Наконец, Исидору известен бой епископа с драконом. В примере, который он приводит, это бой Доната, эпирского епископа в эпоху императоров Аркадия и Гонория, который убил огромного дракона, чье дыхание наполняло смрадом воздух и чей труп восемь пар быков с трудом дотащили до костра, в котором он был сожжен. Исидор не дает никакого символического толкования этому деянию.
Очень трудно составить хронологический каталог сражений святых, и в частности епископов, с драконами. Существующие труды являются одновременно неточными и требующими подтверждения. Историк фактов традиционной цивилизации с трудом, пробивается сквозь строй позитивистов, которые пренебрегают этими явлениями или применяют к ним неадекватные методы, и параисториков, которые забывают о хронологии в своей небрежности и наивности, близорукой эрудиции и бестолковой любознательности. История ментальности, сферы чувств и верований разворачивается в течение долгого времени, но она тоже подчиняется диахронии с ее особенными ритмами. В этой статье ограничимся несколькими важными ориентирами.
| Калло, Жак, 1592-1635
Франция Искушение св. Антония, 1634 Офорт; 45 x 67 см Spencer Museum of Art, The University of Kansas, Museum Purchase: The Phillips Petroleum Foundation, Inc., and The Letha Churchill Walker Memorial Art Fund Гравюра «Искушение святого Антония», которую обычно называют «Второе искушение святого Антония», потому что Калло уже обращался к этому сюжету в 1617 году, самая вдохновенная из всех его сатирических и гротескных композиций. Словно во сне, перед зрителем возникает огромная, озарённая подземным огнём пещера, где в дыму и пламене мечется несметное множество уроддивыхз и фантастических существ. Несколько омерзительного вида тварей окружило лежащего на земле седобородого отшельника. Отвратив взор от восседающей на огнедышащем драконе нагой женщины, Св. Антоний храбро обороняется крестом от наступающих на него бесов. Над головой святого, на кафедре полуразрушенного храма, — оркестр с хором бесов и солистом — ослом. В преддверии подземного царства, слева два чёрта в монашеских рясах читают требник, а справа — стреляющая картечью пушка и отряд вооружённых демонов. |
Победа святого (и, повторимся, особенно святого-епископа) над драконом восходит к истокам христианской агиографической традиции. Действительно, мы находим ее в той первой агиографии, которая вместе с «Житием св. Амброзия» Павлина Миланского, а позже — с биографией св. Мартина Сульпиция Севера послужит моделью всего жанра, — в «Житии св. Антония», написанном св. Афанасием. Здесь встречается сатанинская интерпретация дракона. Но то ли отшельнический дух «Historia monachorum» Афанасия смущал западное христианство, то ли вытеснение греческого сознания в католической церкви ограничило, по крайней мере, на время, влияние «Жития Антония», но эпизод этот среди прочих, кажется, не имел в Западной Европе ни широкого успеха, ни прямого воздействия на св. Цезария и дракона. Единственный эпизод с убивающем змея святым, который, кажется, имел большой резонанс в раннем Средневековье,— это рассказ о драконе римского папы св. Сильвестра, который, в частности, упомянут Фортунатом и который дает основание для сравнения в пользу св. Марцелла.
Этот эпизод из легенды о Сильвестре, к сожалению, привлек внимание историков в основном в связи с исторической ролью и эпохой Сильвестра. Римский папа времени крещения Константина, он этим фактом нацелил историков на политическую интерпретацию своего папства. В этом контексте сражение с драконом естественно становится символом победы над язычеством. Однако другая интерпретация — скорее римская, чем экуменическая — которая, кажется, в Риме пользовалась в Средние века большей благосклонностью, чем католическое толкование, помещает это чудо в другой контекст. С этой точки зрения дракон Сильвестра уподоблен гигантскому змею, выброшенному на берег при разливе Тибра, а роль папы действительно напоминает роль епископа в борьбе против природных бедствий в Риме. Этот эпизод, таким образом, включается в римскую традицию чудес, связанных с природными бедствиями, и предвещает эпизод из священнической стези Григория Великого — монстра, извергнутого Тибром при разливе 590 года в то самое время, когда, согласно свидетельству Григория Турского, Григорий Великий, уже сделавшийся знаменитым своей общественной ролью (особенно в организации продовольственного снабжения), становится епископом в Риме и начинает свое папство с защиты римского населения от природных катастроф (наводнения и чумы) и их последствий.
Таким образом, в конце VI века христианская символика дракона и битвы с ним святого-епископа не закрепляется. Она стремится в духе толкования Апокалипсиса идентифицировать дракона-змея с дьяволом и придать победе святого смысл триумфа над злом, то есть (в этой фазе христианизации западного мира) смысл решающего эпизода в победе христианства над язычеством в одном крае, преимущественно в городах (civitas). Но в этой символике обнаруживаются и другие традиции, в которых значение дракона отличается. Это традиции, которым наследовало само христианство. Обычно они отмечены эволюцией, контаминациями, историей, что затрудняет их анализ. Однако можно,— мы видим, что Исидор Севильский упражнялся в этом,— попытаться выделить несколько культурных влияний: греко-римское наследие, германо-азиатское наследие и наследие местной, коренной культуры.
Элементы, которые мы извлекаем из этого обширного и многослойного наследия, являются, конечно же, результатом сортировки, отбора. Однако мы надеемся, что не ошиблись в значении этих традиций.
В греко-римской традиции нам кажутся существенными три аспекта феномена дракона и героической битвы с ним. Первый проявляется посредством обрядов, верований и легенд, связанных с практикой проведения ночи в храме в надежде увидеть вещий сон. Известно значение, придаваемое в эллинистическую эпоху этому обычаю, великим центром которого был Асклепион в Эпидавре и который происходит из римского мира, собственно из его восточной части. Это ожидание в священном месте видения или сна, несущих ответ на вопрос, задаваемый богу страждущим или обеспокоенным, было только продолжением традиции сверхъестественных сексуальных отношений между женщиной и богом, которые порождают героя. Традиционный облик оплодотворяющего бога был обликом змея-дракона. Самый знаменитый из детей этих священных браков — Александр. Но Светоний сообщает, что Аполлон, разделив под видом дракона ложе с Атией, пришедшей в его храм совершить обряд ожидания вещего сна, породил таким образом Августа. Вокруг Асклепия, принявшего облик дракона, и предания о Гиппократе развилась легенда о драконе острова Кос. Что здесь для нас важно, так это связь дракона с ночным и сновидческим миром, смешение желания и страха, надежды и ужаса, которым окружены его появления и действия. Этими проблемами должен бы заняться психоанализ. Мы вернемся к этому.
Второй аспект — это смысл расчистки места, который несет греко-римский миф о боге и убивающем змея герое. Даже если водворение Аполлона в Дельфах после победы над змеем Пифоном выходит за локальные рамки, если бой Персея с драконом, держащим в плену Андромеду, не связан напрямую с основанием Микен, то миф о Кадме, например, подчеркивает значение победы над драконом. Она делает возможным и означает основание в определенном месте поселения, она является ритуалом образования города и освоения земли. Дракон здесь символ природных сил, которые нужно покорить. Если его смерть необходима, то она является не только устранением препятствия, но и оплодотворяет. Кадм сеет в землю будущих Фив зубы убитого дракона.
За греко-римским наследием проступает воздействие восточных культур, обогативших его. Эволюция же символики дракона может быть прослежена в Вавилоне, Малой Азии, Египте. Изложил ее в фундаментальном исследовании Элиот Смит. Дракон в азиатско-египетском культурном пространстве был первоначально олицетворением водных сил, одновременно орошающих и разрушающих. Существенный элемент могущества драконов — управление водой: доброжелательные драконы давали дожди и орошающие речные разливы; враждебные — вызывали потопы и опустошительные наводнения. Вначале именно положительная их роль преобладала, драконы были существами, прежде всего благодетельными, символом и олицетворением оплодотворяющих богов и героев или царей-основателей; например, дракон, воплощающий Тиамат, одну из форм Богини-Матери, и морской дракон, связанный с рождением Афродиты, которая сама является одной из форм Богини-Матери. Затем дракон теряет связь со своей средой и становится в конце концов символом зла. В Египте он отождествлен с Сетом, врагом Осириса и Гора, субстанцией Осириса и жертвой сына Осириса, Гора. Таким образом, египетская рационализация предшествует христианской рационализации. В Египте к тому же можно заметить переход Гора в Христа, с одной стороны, Сета — в Сатану, с другой. Но что здесь для нас важно, так это то, что, несмотря на сходство со змеем, в полном смысле хтоническим животным, дракон существенно связан с силами вод.
Дальний Восток — другой великий источник символики дракона. Она, как представляется, непосредственно достигает христианского западного мира только позже, в XIII веке, согласно Юргису Балтрушайтису. В Китае дракон, кажется, особенным образом связан с ураническим миром, с солярным мифом, он крылат. Но, двигаясь степными дорогами, этот небесный дракон сливается более или менее с хтоническим змеем и драконом, тоже хтоническим, охраняющим сокровище, и близок к грифону, которому перевоплощения животного символического синкретизма тоже дадут крылья. Важно то, что эти дальневосточные драконы, идущие степными дорогами, достигают западного мира меровингской эпохи. Эдуард Сален, развивая мысль Форре выявил путем анализа эстетических форм меровингского искусства западное воплощение азиатского дракона и особенно подчеркнул обе существенные черты его символики: с одной стороны, его многозначность, с другой стороны, его амбивалентность: «Формы меровингского дракона очень разнообразны; его символика — не меньше; действительно, он, весьма вероятно, отражает равным образом разные верования так же, как воспроизводит самые различные божества». И еще: «Чаще всего солярного характера, когда они сближаются с грифоном, и хтонического характера, когда они происходят от змея, то благоприятные, то пагубные, изображения дракона предстают, в конце концов, наследием веровании почти таких же древних, как мир, и распространенных в Евразии от Востока до Запада».
В этом комплексе символик и верований необходимо постараться распознать наряду с греко-римским наследием и азиатско-варварским влиянием участие коренных традиций. Если рассматривать кельтский мир, то здесь в некоторых областях в изобилии водятся драконы, и в Ирландии, например, святым приходилось особенно часто противостоять им. Но галльский мир верований и символов не богат драконами, хотя, конечно же, встречается хтонический змей, атрибут богов и богинь, убитый галльским Гераклом, Смертриосом-Помощником.
Но нет ли во всех этих верованиях и первобытных мифах универсального змея-дракона? Не является ли меровингский дракон главным образом фольклорным чудовищем, вновь появившемся в системе верований, когда языческая культура поблекла, а христианская культурная система еще не укоренилась по-настоящему? Если Фортунат только слегка намечает церковно-христианскую интерпретацию дракона св. Марцелла, не имел ли тот в собранном Фортунатом устном предании иного значения? Не следует ли попытаться поискать это значение в глубинах фольклора, возрожденного, но отягощенного фольклорными элементами предыдущих культур и сделавшегося особенно актуальным благодаря новой исторической ситуации? В глубине легенды, изложенной Фортунатом, находится образ чудотворца, усмирившего грозные силы. Эти силы связаны с природой. Но изображенное чудовище — нечто среднее между хтоническим животным (змей) и животным более или менее водным (дракон), так как святой приказывает ему исчезнуть либо в пустыне, либо в море. Конечно, в парижском географическом контексте море возникает из агиографической модели, копируемой Фортунатом без малейшей обработки. Но не должно ли все-таки это заимствование объясняться относительным сходством с подобным контекстом — контекстом водяным, фундаментальный характер которого в символике дракона показал Элиот Смит?
Если от обстановки перейти к героям, то не представляет ли святой себя здесь в роли змееистребляющих героев — освободителей и цивилизаторов? Весь словарь героя, более светский, чем религиозный, указывает на это. Что касается дракона, то если он устранен как опасность, как объект страха, не является ли показательным тот факт, что он не убит, а только изгнан: «Чудовище вскоре исчезло, и никогда больше не находили его следов»? Сражение, изображенное Фортунатом,— это не смертельный поединок, это сцена укрощения. Между епископом-укротителем и чудовищем за краткий миг устанавливаются отношения, напоминающие дружбу отшельников и святых с животными, особенно с дикими зверями — от льва св. Иеронима до волка св. Франциска («и тот со склоненной головой принялся просить прощения, виляя хвостом»): зверь, следовательно, скорее обезвреживаемый, чем убиваемый. Что же мы можем представить себе за сценой, где герой укрощает природные силы, помимо того, что агиограф явно хотел и мог сделать из этого символический эпизод евангелической проповеди?
Факт материальной цивилизации. Топографический театр сцены легко угадывается: это место, где возникнет в Средние века предместье, пригород, который примет имя св. Марцелла, то есть низменная долина Бьевра, чей болотистый характер еще угадывается в современном Ботаническом саду. Лучший знаток парижской топографии в раннее Средневековье, Мишель Роблен, напомнив об этой колыбели парижской христианизации, «старом христианском пригороде Сен-Марсель», и подчеркнув, что его образование «не было четко объяснено», упоминает наличие каменных карьеров, которые могли благоприятствовать сооружению катакомб, подобных римским, возможному использованию вод Бьевра, которые спустя века привлекут красильщиков и кожевников в предместье Сен-Марсель, и полагает, в конце концов, что Сен-Марсель — «это, кроме того, просто дорожная остановка по пути из Санса». «Поэтому вполне естественно,— продолжает он,— что христианство, занесенное из Италии через Лион, Церковная культура и культура фольклорная в Санс, прежде всего, распространилось в Сен-Марселе, первом квартале Лютеции, если идти по левому берегу». Не проливает ли наш текст некоторый свет на это рождение городка Сен-Марсель? Не встречаемся ли мы здесь с мифом основания — христианским или не христианским? Не является ли победа Марцелла над драконом приручением genius loci, преобразованием природного ландшафта между «пустынями» леса (silva), логовом хтонического змея, и болотами слияния рек Сены и Бьевра (mare), где водяному дракону велено исчезнуть? Нет ли здесь свидетельства об одном из тех поселений раннего Средневековья, возникших благодаря первым освоениям земли и примитивному дренажу под эгидой какого-нибудь епископа — экономического предпринимателя и в то же время духовного пастыря и политического лидера? Это также образование городского сообщества раннего Средневековья, свидетелями которого мы здесь являемся, вокруг сословия верных граждан (cives), городской и пригородной земли, причем в непосредственной близости от пути определенной важности.
Этот текст не единственный, где Фортунат рассказывает о чуде, посредством которого святой, очищая местность от чудовищ (драконов или змеев), побуждает к ее освоению.
В «Житии св. Илария» Фортунат рассказывает, как святой, проходя вблизи острова Галлинария напротив Лигурийского побережья, был встревожен жалобами жителей на невозможность обосноваться на острове из-за огромных змеев, которые его одолевают («ingentia serpentium volumina sine numero pervagari»). Как и Марцелл, Иларий смело вступает в бой с дикой нелюдью («vir dei sentiens sibi de bestiali pugna venire victoriam»). При виде его змеи устремляются прочь, и епископский посох служит на сей раз межевым столбом, разграничивающим остров на две части: одну, куда змеям запрещено проникать, другую — где они могут пользоваться свободой. Здесь сказано определеннее, чем в случае со св. Марцеллом, что опасное чудовище, символ враждебной природы, обуздано, усмирено, не уничтожено". К тому же змеям тут также было сказано, что если они не желают соблюдать установленное святым разделение, им остается море, здесь действительно имеющееся.
Как и в житии св. Марцелла, анализ здесь ориентирует толкование на сатанинскую символику. Фортунат подчеркивает, что второй Адам, Христос, превосходит первого, так как, вместо того чтобы слушаться змея, он обретает служителей — подобных святому,— способных повелевать змеями. Здесь намек еще не акцентирован. Напротив, заключение чисто материальное и делает Илария, бесспорно, «героем-устроителем»: «Он расширил землю людей, так как человек начал обосновываться на земле нелюди».
Даже если не придерживаться нашей гипотезы относительно символики битвы св. Марцелла с драконом, то, тем не менее, в конце VI века в Галлии церковным авторам, стремящимся христианизировать легенды о святых-змееборцах, отождествляя змея или изгнанного дракона с дьяволом, не удается в достаточной мере замаскировать явно отличающуюся символику. Эта сложная символика, кажется, раскрывает исконную почву фольклорного характера, скрывающуюся за наслоениями различных дохристианских культур. Она проявляется в связи с системой ментальных отношений и осторожного поведения с могущественными и двусмысленными природными силами. Дракона усмиряют и в некоторой степени заключают с ним соглашение.
Шесть веков спустя св. Марцелл и его дракон появляются вновь. В конце XII века одна скульптура собора Парижской богоматери, видимо, подсказанная текстом Фортуната, воспроизводит сцену, которую мы только что пытались анализировать, хотя у нас есть веские основания считать, что с этого времени св. Марцелл и его дракон фигурируют в процессиях Вознесенского молебна, которые проходили вблизи собора Парижской богоматери. Кем в таком случае стали наши герои, и какое значение мог иметь тут дракон?
Прежде всего, бегло очертим главные направления эволюции символики дракона между VI и XII веками.
В одной из важнейших книг, которую раннее Средневековье завещало романскому благочестию, «Толковании на книгу Иова» Григория Великого, Левиафан из Ветхого Завета отождествлен с Сатаной. Ра-бан Мавр дает в IX веке итог христианского энциклопедизма. Известно, что он многое почерпнул из Исидора Севильского. Однако отличия разительны. Аббат из Фульды рассуждает о драконе в главе о змеях. Ее первая часть — познавательная: дракон — это самый крупный из всех змей и даже из всех животных. Он часто выходит из пещер для полета. Он имеет гребень на голове, и из маленькой пасти узкими струями он извергает свое дыхание и жалит своим языком. Его сила сосредоточена не в зубах, а в хвосте. Неправда, что следует опасаться его яда. Но вскоре рассуждение переходит в другой план, план мистического значения. И тогда дается отчетливая интерпретация: дракон — это дьявол, или его посланники, или гонители церкви, злые люди. Названы и библейские тексты, на которых основывается эта интерпретация: Псалтырь, книга Иова, Апокалипсис. Упоминание в этих текстах дракона то в единственном, то во множественном числе подводит к уточнению, что дракон может означать, помимо дьявола, злых духов: один дракон — это Сатана, «драконы» — это исполнители его воли.
Этот дьявольский дракон, служитель зла, как раз тот, что царит в романской иконографии. Хотя натуралистическое направление, идущее от Исидора и усиленное растущим влиянием «Физиолога» на бестиарии, действительно может разрешить скульптору или миниатюристу ту или иную вариацию гребня, чешуи, хвоста, оно не теряет функции пагубной символики и присоединяется к традиции Сатаны-Левиафана, которая, начиная с Григория Великого, утверждается у самых знаменитых комментаторов книги Иова, таких как Одон Клюнийский, Бруно Астийский, вплоть до Гонория Августодунского, который совершает синтез мистико-аллегорического и псевдонаучного направлений. Даже там, где он не являет собой семиглавого дракона Апокалипсиса, романский дракон — это зло.
Успех дракона в романском искусстве имеет двойное происхождение, которое совпадает с двойственным — эстетическим и символическим — истоком романского искусства в целом. С одной стороны, вслед ирландскому искусству и искусству Северного Причерноморья в романских формах принимается гибкое тело дракона. Не это ли тема, которая позволяет романскому художнику соответствовать канону, определенному Анри Фосийоном: «Закон больших соприкосновений с рамой»? С другой стороны, вездесущность зла в романском мире порождает драконов на каждой странице рукописи, в каждом углу изваянного камня, на кончике каждой вещи из кованого металла.
Но романский мир — это мир «психомахин», борьбы добродетели и порока, добра и скверны, добрых и злых. Навстречу Сатане и его приспешникам, навстречу драконам встают индивиды и общественные классы, являющиеся божьими ратниками. В христианской мифологии спасения, где в каролингскую эпоху св. Михаил, верховный боец, поражает дракона, отныне именно рыцари наряду с духовенством борются с чудовищем. Начиная с XI века св. Георгий, пришедший с Востока еще до крестовых походов, чтобы идеологически поддержать социальное восхождение военной аристократии, беспрестанно побеждает все новых и новых драконов от имени всех рыцарей. Но неоднократно реальный рыцарь, анонимный, вооруженный от стремян до шлема, обрушивается на чудовище и иногда спешивается, чтобы сразить его, как тот, чей подвиг запечатлен в изваянии из музея Гадань в Лионе. Среди этих бесстрашных воинов, как и в героические времена евангельской проповеди, но теперь в скрытой символике, выделяется епископ. Редки епископские посохи, которые не венчались бы побежденным драконом, демонстрирующим своим извитым телом блестящее искусство золотых дел мастера и символизирующим власть прелата.
Подъем искусства надгробий на рубеже романской эры и готики открывает побежденному дракону другую роль. Он укладывается в ногах своих победителей, чья победа увековечена в камне. Он служит также символической подушкой епископам, как, например, Гуго Фуйуа в Шартре, или иногда даже светским сеньорам, например Эмону, графу де Корбей. Но не находим ли мы здесь вновь за сатанинской символикой символику триумфа героя-цивилизатора, строящего соборы или распахивающего целину, организатора феодального порядка?
Эти драконы в романском мире не всегда такие покладистые. Они вторгаются в сны героев, преследуют их ночами и вселяют в них ужас. Карл Великий в «Песне о Роланде» в кошмарах видит их терзающими его войска. Дракон в романском мире — животное из снов, этим он усугубляет амбивалентность своего происхождения и выражает коллективные навязчивые идеи феодального класса и его цивилизации.
Наконец, другие драконы, кажется, определенно лишены темного происхождения и логически обоснованного разъяснения диаболической символики. Это драконы-штандарты. Благодаря Исидору Севильскому мы увидели их античные корни. С начала IV века во время христианского политического триумфа военный дракон перешел к новообращенным хозяевам: на лабаруме монет Константина, где древко священного знамени попирало дракона. Но дракон-штандарт в XI- XII веках, без сомнения, скорее наследник азиатских штандартов, достигших западного мира с англосаксами и викингами на севере, арабами — на юге. Во второй половине XV века они изображаются на Байонской шпалере, а в «Песни о Роланде» они, как видим, оставлены для сарацинских знамен; правда, «Песнь» дошла да нас в достаточно оцерковленном тексте, в котором сатанинская символика служит политико-религиозной пропаганде. Но дракон-штандарт в течение XII века развивает собственную символику, которая завершается превращением дракона в эмблему военного, а потом и национального сообщества. «Норманнский дракон» (Draco Normannicus), давший свое название поэме Этьена Руана,— это метафорически просто норманнский народ, норманны, согласно употреблению, введенному Гальфридом Монмутским. Два дракона, обнаруженные Мерлином, в действительности, по признанию самого автора, суть символы бретонского и саксонского народов. Но за ними вырисовывается, как это прекрасно увидел Жан-Шарль Пайен, весь неясный мир фольклора, который церковь раннего Средневековья отодвинула на задний план и который наряду с законченной системой церковной символики вдруг внезапно проявился в романскую эпоху.
Св. Марцелл и его дракон появляются в скульптурах собора Парижской богоматери дважды: на фасаде в простенке ворот св. Анны, на северной стороне — на вуте ворот каноников.
Эти скульптуры не одновременны. История портала св. Анны самая запутанная: большая часть скульптур датируется началом строительства церкви, примерно 1165 годом, которое вновь было возобновлено позже, около 1230 года, во время сооружения порталов фасада. Тимпан и центральная часть верхней полочки ригеля относятся к XII веку, а две сцены на краю верхнего перекрытия и нижнее перекрытие — к XIII веку. По всей вероятности, простенок появился в «архаичный» период.
Место св. Марцелла на воротах св. Анны вписывается в программу фасада. В этом скульптурном триптихе центральный портал посвящен Христу и изображению судьбы человечества, которое через борьбу пороков и добродетелей, через Новый Завет, воплощенный апостолами, движется к Страшному суду. Обе створки, которые его обрамляют, посвящены Богоматери. Но слева увенчанная Богоматерь покровительствует литургическому циклу, это торжество Марии-Экклезии, объединяющей занятия разных месяцев и, по выражению Адольфа Каценелленбогена, серию персонажей всей церковной истории. Здесь фигурируют св. Михаил, сразивший дракона, и персонажи, заметные в истории церкви и в парижском традиционном культе: Константин, вероятно, со св. Сильвестром, св. Стефан, первомученик и патрон первого парижского собора, св. Дионисий и св. Женевьева.
Более хронологически, более последовательно портал св. Анны помещает исторический комплекс под покровительство Мадонны, восседающей с младенцем. На перекрытии жизнь Богоматери начиная с истории ее родителей до последнего эпизода ее родов — визита волхвов. На вутах и опорных столбах — персонажи Ветхого Завета: цари и царицы, пророки, старцы Апокалипсиса до укрепления церкви св. Петром и св. Павлом — делают этот портал порталом предтеч. Но именно здесь собор проявляет также свою историческую индивидуальность. На тимпане — его основатели, слева — епископ Маврикий, справа — король Людовик VII. Наконец, в простенке — св. Марцелл, парижский патрон, больше всех имеющий отношение к собору, в котором хранятся его мощи. Таким образом, в соборе Парижской богоматери св. Марцелл лучше и больше, чем св. Дионисий и св. Женевьева, представляет парижскую церковь, парижское епископство, парижскую христианскую общину. Епископ-пастырь, обрисованный и включенный в число праведников в «Житии» Фортуната, находит здесь естественное завершение своего триумфа и своего местного значения.
Скульптор св. Марцелла с ворот св. Анны, вероятно, по совету своих коллег следовал тексту Фортуната. В нижней части группы действительно изображен саркофаг с телом блудницы, откуда выползает дракон. Что касается сражения святого с чудовищем, оно ограничено моментом торжества Марцелла над драконом. Без сомнения, на иконографическое значение оказали воздействие технические требования: подчинение линиям перекрытия диктовало вертикальную сцену, где святой мог только возвышаться над драконом, а не горизонтальную битву, где усмирение могло бы приобрести характер менее кровавый и более сообразный тексту Фортуната. Как бы то ни было, неточное воспроизведение этого текста, которое превращает устранение чудовища через изгнание в его умерщвление с помощью посоха, примененного в качестве оружия, погружаемого в пасть дракона и убивающего его, эта неточность есть проявление клерикальной интерпретации зловредной символики дракона. Каноники собора Парижской богоматери, которые наметили программу скульптора, изменили текст Фортуната таким образом, чтобы приспособить его к эволюции символики дракона, и простенок предоставил им место, прекрасно подходящее для этой особым образом осмысленной эстетики.
Так же на вуте ворот каноников, называемых еще по цвету их створ красными воротами, сцена из жития св. Марцелла, изображающая епископа, одержавшего победу над драконом, следует той же иконографии: святой вонзает посох в пасть чудовища. Эта скульптура может быть датирована приблизительно 1270 годом.
Скульптуры собора Парижской богоматери соответствуют символике дракона в ортодоксальной готике. Несомненно, готический дух несколько ослабляет эту символику, больше утверждая детальную и нравоучительную сторону этой сцены, чем ее теологическое значение. В соответствии с эпизодами, выводящими на сцену драконоубнвающих святых и епископов у Винсента из Бове и в «Житии» Якова Ворагинского, дракон — это скорее символ греха, чем зла. Но подтверждается его преимущественно злой нрав. Все драконы Ветхого Завета и Апокалипсиса сливаются, наконец, в готическую эпоху в материальное воплощение ада. Именно пасть дракона символизирует его в многообразных преисподнях на изображениях Страшного суда.
Однако в эту же эпоху, без сомнения, совсем другой дракон св. Марцелла обретается в окрестностях собора Парижской богоматери. Во время процессий Вознесенского молебна большой ивовый дракон, в открытую пасть которого народ бросал фрукты и печенье, с великой радостью проносился парижанами. Этот дракон был, конечно же, драконом св. Марцелла, но все же отличным от того, которого духовенство представило на портале св. Анны и на красных воротах, а также отличным от дракона, выведенного Фортунатом. Это один из многочисленных засвидетельствованных и известных прецессионных драконов Вознесенского молебна. Среди наиболее знаменитых на западе Франции назовем Grand Cueule из Пуатье, дракона-крокодила из Ниора, Cargouille из Руана; во Фландрии -Эно — драконов из Дуэ и Монса; в Шампани — дракона из Труа, названного Chair-Salee, дракона из Провена и Kraulla, или Grand Bailla, из Реймса; в Лотарингии драконов из Тула, Вердена и особенно из Меца с его знаменитым Crawly, который не ускользнул от такого великого потребителя фольклора и любителя гигантских существ, каким был Рабле. Юг Франции не менее богат драконами, хотя, если оставить в стороне Нимского крокодила, единственным знаменитым драконом будет Tarasque из Тараскона. Но его пример в то же время показателен и тем, что предание, дошедшее, или, вернее, воскрешенное в XIX-XX веках, сделало возможным конкретное исследование, произведенное в отличной книге Луи Дюмона. Тщательный обзор обнаруживает драконов почти в каждом городе (или местности): в Сен-Боме, Арле, Марселе, Эксе,Драгиньяне, Кавайоне, Воклюзе, на острове Лерен, в Авиньоне . В действительности эти драконы имеют двойное происхождение. Некоторые восходят к агиографическим легендам и связаны со святым, часто епископом (или аббатом), а эти святые часто относятся к раннему Средневековью. Таков, например, Crawly из Меца, вышедший из легенды о святом епископе Клименте, дракон из Провена со св. Кириаком, марсельский дракон, приписываемый св. Виктору, драгиньянский дракон, принадлежащий св. Армантеру. Таков, конечно же, пример нашего дракона св. Марцелла Парижского. Но большинство этих прецессионных драконов обязаны своим существованием только процессиям Вознесенского молебна, где они занимали, как мы увидим, вполне официальное место. Самые известные из этих драконов, кажется, те, кто, будучи приписан легендой местному святому, мог попасть в процессии Вознесенского молебна под покровительством святого и с яркой индивидуальностью, иногда подчеркнутой собственным именем, насмешливым прозвищем. Это также, очевидно, пример нашего дракона св. Марцелла, хотя кажется, что он не достиг большой известности.
Несомненно, впрочем, что эти прецессионные драконы врастают в фольклорные обряды. Приношения натурой, к которым они обязывают то ли в свою пользу, то ли в пользу организаторов или исполнителей процессии (кюре, пономари, участники процессии), являются искупительным ритуалом, связанным с церемониями, еще в глубокой античности вызывающими благосклонность сил плодородия. У римлян юные девушки приносили весной пироги в гроты, где жили змеи (драконы) Юноны Ланувийской, богини земледелия, от которой ожидали богатого урожая. Платон поместил эти пожертвования выпечкой и фруктами в контекст вечного плодородия Золотого века (Законы, VI, 782 СЕ).
Но каким образом уточнить хронологию появления этих прецессионных драконов, а через нее — их значение для людей Средних веков, бывших их исполнителями или зрителями?
Первая гипотеза — это гипотеза преемственности веровании и обрядов, касающихся этих драконов, от античности и даже от первобытных времен до позднего Средневековья. Фрейзер пытался установить это родство, связывая прецессионные чучела с великанами друидских жертвоприношений. Эта гипотеза предполагает, что процессии Вознесенского молебна восприняли предшествующие церемонии. Однако это не доказано. Мы знаем, что процессии Вознесенского молебна были введены св. Мамертом, вьеннским епископом, умершим около 470 года, и что они получили быстрое распространение, как свидетельствует о том св. Авит, тоже вьеннский епископ между 494 и 518 годами. Утверждалось, что эти христианские праздники были призваны заменить галло-римские ambarvalia — весенние празднования в честь Цереры — и переняли от них многочисленные обряды, в том числе обряд переодевания животными. Однако некоторые сведения, не относящиеся к Вознесенскому молебну, содержащиеся в текстах раннего Средневековья, свидетельствуют, насколько строго церковь запрещала эти переодевания. Если некий текст утверждает, что лангобарды в середине VII века в царствование Гримоальда поклонялись изображению змеи, то Цезарий Арелатский в проповеди запрещает обычай обходить дома, переодевшись оленем, коровой или любым необычайным животным, а собор в Оксерре в 578 году издал сходное запрещение. Эти два текста имеют к тому же отношение к фольклорно-языческим обычаям январских календ — «дьявольских починов», как сказали отцы Оксеррского собора. Все, однако, показывает, что церковь раннего Средневековья преследовала главным образом цель запретить языческие обряды, особенно фольклорные, либо устраняя их, либо искажая, либо, если она это могла,— а могла она тогда много,— подавляя и разрушая их. Мы ничего не знаем о том, как проводились Вознесенские шествия в раннем Средневековье. Нам представляется маловероятным, чтобы они включали прецессионных чудовищ, и особенно драконов. Мы считаем это, таким образом, скорее более или менее поздним воскрешением или возрождением Средних веков. Возможно ли его датировать?
Арнольд ван Геннеп высказал несколько гипотез о появлении прецессионных великанов, в том числе и драконов, во Фландрии и Эно. Согласно ему, хотя драконы и входят в прецессионные кортежи, именуемые на фламандском языке renzentrein (поезд великанов), а на валлонском — menagerie (зверинец), они инородного происхождения. Животные, первыми появившиеся в этих зверинцах, были дракон, слон, верблюд, лев, кит, «иными словами звери, о которых говорится в Библии и Апокалипсисе и которые были знакомы по иллюстрациям рукописей или первых печатных изданий. Позже появляются также все виды чужих животных: страусы, крокодилы, пеликаны и т. д.». Таким образом, А. ван Гённеп полагает, что эти зверинцы образовались в XV веке, скорее в конце его, что они не связаны с циклом поста и карнавала и что их происхождение «было скорее литургическим и наполовину ученым, чем народным». Зато он уверен, что чудовищные драконы ранее появлялись в кортежах и что именно они определили моду на гигантскую форму, которую затем получили другие животные, а потом и человеческие фигуры. Он отмечает этих драконов в Анвере в 1394 году, в Сьерре в 1417, в Алосте в 1418, в Фюрне в 1429, в Оденарде в 1433, в Малине в 1436. Эта хронология может быть начата еще ранее. Записи собора св. Эме в Дуэ отмечают расходы, понесенные в 1361 году, «чтобы сделать дракону, которого понесут на процессии, native keuwe из алого сандала». Что касается происхождения этих прецессионных драконов, то оно идет, очевидно, от Вознесенских шествий. Но когда они стали включать драконов?
Во Фландрии до дракона из Дуэ в 1361 году мы не встречаем индивидуализированного дракона. Позволит ли нам уточнить и снизить хронологическую планку дракон св. Марцелла Парижского?
Луи Рео заявляет: «На Вознесенских процессиях священники собора Парижской богоматери поручали нести, вспоминая его символическое чудо, большого ивового дракона, в открытую пасть которого народ бросал фрукты и пироги». Он не уточняет, в какую эпоху, и ясно, что он воспроизвел без ссылки отрывок из книги Альфреда де Нора «Обычаи, мифы и традиции французских провинций» (Nore A. de. Coutumes, mythes et traditions des Provinces de France. Paris, 1846) или из труда историка Парижа начала XIX века Дюлора.
Мы не смогли обнаружить ни в документах, ни в хрониках Средневековья, ни в древних или современных историях Парижа никакой справки о прецессионном драконе св. Марцелла. Как раз в то время, когда этот дракон стоял на пороге забвения, в XVIII веке, его существование подтверждается. Дюлор, а после него А. де Нор утверждали, что прецессионный дракон св. Марцелла исчез около 1730 года. Однако во втором (1733 года) издании своей «Истории и исследований древностей города Парижа» Анри Совал, по-видимому, адепт просветителей, заявляет с нескрываемым презрением: «Каждый год в процессиях, которые собор Парижской богоматери устраивает на Вознесение, мы еще видим большого дракона, проделывающего те же глупости, какие делал этот большой дьявол»,— то есть дьявол, который сражался со св. Михаилом, как делал это и дракон со св. Марцеллом.
Следует ли отказаться от попыток датировать возникновение прецессионного дракона св. Марцелла и смиренно сказать вслед за Дюлором: «Самый туманный обычай древности...»,— не принимая, однако, ту гипотезу, которая уже показалась нам слишком рискованной: «...который вполне мог бы восходить к языческим временам»? Одно замечание второго издания «Истории Парижа» Дюлора показывает, что единственный источник, который может подкрепить утверждение о древности парижского прецессионного дракона,— это хорошо известный текст общего характера. «Все церкви в Галлии,— пишет Дюлор,— имели в XIII веке своего дракона. Дюран в "Rational" говорит об этом как о всеобщем обычае. Эти драконы, согласно ему, означали дьявола». Действительно, Гийом Дюран в своем «Rationale dmnorum ofneiorum» в конце XIII века повторяет текст парижского литургиста Жана Белета, около 1180 года, а Жак де Витри в начале XIII века обратился в своей проповеди к Вознесенскому шествию. Эти тексты сообщают нам, что в некоторых местах во время Вознесения процессии проходили в течение трех дней и что в этих процессиях фигурировал дракон. Первые два дня дракон шествует во главе кортежа, опережая кресты и хоругви, со своим длинным хвостом, задранным вверх («cum cauda longa erecta et inflata» ). На третий день он следует позади с опущенным хвостом («cauda vacua aeque depressa»). Этот дракон изображает дьявола («draco iste significat diabolum»), три дня обозначают три эпохи истории — до слова божия («ante legem»). в царствование слова божия («sub lege») и благословенные времена («tempore gratiae»). В течение двух первых эпох дьявол царствовал и, исполненный гордости, обманывал людей. Но Христос победил дьявола и, как говорит Апокалипсис, дракон пал с неба («draco de caelo cadens»), теперь этот свергнутый дракон может лишь робко пытаться совращать людей.
Эта символика ясна. Луи Дюмон, которому известны эти тексты, замечательно объяснил символику хвоста в связи с ритуалом Тantique. То, что эта символика очень древняя и уходит корнями в псевдонаучную символику античности и фольклора, мы считаем уже показанным. То, что она проявляется в тексте Фортуната, уже явлено.
Можно ли сказать, что начиная с этой детали, правда важной, мы вновь принимаем гипотезу наследственности от фольклорного дракона?
Луи Дюмон, мастерски анализируя самый древний текст, где возникает Tarasque,— «Житие св. Марты», будто бы написанное Марцеллой, служанкой Марты, и составленное между 1187 и 1212 годами, использованное Гервазием Тилберийским, Винсентом из Бове и Яковом Ворагинским, доказывает, что, несмотря на книжное влияние бестиариев, чудовище, которое описано в «Житии», подтверждает существование «обрядового изображения». Иконографическое исследование также приводит его к мысли о том, что обрядовый Tarasque появляется на рубеже XII и XIII веков — бесспорно, после долгой предыстории.
Мы бы охотно склонились к мысли о том, что нечто подобное должно было произойти с прецессионным драконом св. Марцелла. Так же как Луи Дюмон для Tarasque, мы не смогли установить «иконографический аналог» для дракона св. Марцелла и не имеем изображения прецессионного дракона. Нам представлен единственный церковный дракон собора Парижской богоматери. Но начало XIII века, кажется, действительно дает иконографии драконов, которые, как и Tarasque, могли быть спровоцированы только реальными чучелами, ритуальными изображениями. Мы полагаем, например, что наблюдаем одного такого в качестве жерла фонтана начала XIII века, имеющего северофранцузское происхождение и хранящегося в музее Далем в Берлине. Дракон, оседланный дьяволом, как мне кажется, порожден не духом традиционных романских форм и не чистым воображением одаренного художника. Я нахожу здесь прецессионную маску, родственную маскам карнавала.
Что же означает этот дракон нового, непосредственно фольклорного, характера? Текст Жана Белета, пример Tarasque, возможные иконографические аналогии — достаточны ли они, чтобы подкрепить гипотезу, что прецессионный дракон св. Марцелла возник, очевидно, в конце XII или в начале XIII века?
В конце своего исследования Луи Дюмон, резюмируя главные черты обряда Tarasque, своей «этнографической добычи», заявляет «Социологический фактор — основной. Tarasque — это, прежде всего, зверь-эпоним, защита общины». Эти последние слова странным образом напоминают выражение из текста Фортуната о св. Марцелле — победителе дракона: «propugnaculum patriae». Возможно, в конце XII века то, что в V-VI века означало установление христианского общества, организацию городского и пригородного пространства, теперь принимает локально и повсеместно новое значение, но того же направления?
Не была ли эта эпоха конца царствования Людовика VII и правления Филиппа Августа временем, когда Париж становится столицей, когда его топографический рост, обнесение новыми стенами, развитие и налаживание его городских функций привели парижан к новому осознанию своей земли и к поиску новой городской эмблемы? Роль Этьена Марселя в XIV веке, а после него класса богатой буржуазии, навязавшего Парижу политическую эмблематику, заимствованную у крупного купечества: корабль на Сене, красно-синий капюшон. Но не был ли еще раньше дракон св. Марцелла, по крайней мере, вариантом парижского герба? В то время когда духовенство на портале св. Анны делает из Марцелла явного и постоянного патрона города, разве не вводит народ в Вознесенский ход дракона иного происхождения и иного характера, в котором оформляет свое чувство локального патриотизма?
Если отсутствие всякого документального материала о Париже позволяет нам сделать из этой мысли только гипотезу, то один лишь взгляд, отведенный от Парижа и Тараскона, подтверждает нам, что эта гипотеза не абсурдна. Вторая половина XII и XIII века действительно свидетельствуют о развитии в западном мире городской эмблематики дракона. Баттар, изучавший городские общественные сооружения севера Франции и Бельгии, описал тех чудовищ или животных, обычно подвижных и вращающихся вокруг железного стержня, которые становятся «защитным символом города». По большей части, подчеркивает он, этим эмблематическим животным был дракон. Это примеры Турнэ, Ипра, Бетюна, Брюсселя, где дракон повергается св. Михаилом, Гента, где восстановленный Draak еще хранится в музее дозорной башни. Его рост 3 метра 55 сантиметров, вес 398 килограммов; по легенде, он был привезен крестоносцами из Константинополя в Брюгге, значит, в начале XIII века, и получен гентцами в 1382 году. Этот городской дракон — результат заимствования городом древнего дракона-хранителя сокровищ. С высоты дозорной башни он охранял архив и общественную казну.
Фридрих Вильд, начав с анализа эпоса, и особенно «Беовульфа», также обнаружил эти драконы-штандарты, фамильные гербы, гербы общин, корпораций.
Пробовали вывести епископского дракона от дракона-хоругви Вознесенского шествия. Вестфален написал по поводу немецкого Crowly: «К XII веку мэры и судьи Вуаппи — деревни, зависимой от капитула немецкого собора,— несли на процессиях св. Марка и Вознесенья три красные хоругви, одна из которых — с головой дракона — возвышалась над другими. Веком позже это знамя — vexillum draconanum — уступило место Crowly, который должен был изображать дракона, побежденного проповедником из Мессины, ее первым епископом,— св. Климентом...». Это заявление — искусный монтаж, который пытается рационально и хронологически организовать сюжеты, совпадение которых в XII веке трудноуловимо. Его слабость — неподкрепленность ни одним документом.
Вероятное пересечение парижского церковного дракона и парижского же фольклорного дракона, эмблематические интерпретации одного и того же традиционного животного, дракон св. Марцелла, парижского епископа V века,— не свидетельствует ли все это о совпадении клерикальной культуры и культуры народной, которое обнаружилось в значении дракона, материализованного в камне там и в ивовых прутьях — здесь?
Заметим прежде, что у духовенства эмблемой является епископ в его функции убийцы дракона, хотя у народа это, как видим, именно сам дракон в его разного рода взаимоотношениях с прелатом. С другой стороны, если церковный дракон без всяких двусмысленностей выбран в качестве символа зла, которое необходимо уничтожить, то народный дракон — это объект более смешанных чувств: прежде всего приношениями стараются его задобрить, угодить ему, прежде чем посмеяться над его поражением, не желая его смерти. Естественно, прецессионный дракон входит в христианскую церемонию, и литургисты дали ортодоксальную теологическую интерпретацию его поведения, а заодно и поведения зрителей во время трехдневной процессии. Также нельзя исключить гипотезы ученого церковного происхождения прецессионного дракона, которого затем народ исказит в соответствии со своими традициями. Ван Геннеп говорил о «фольклоризированных литургических праздниках», также известно уничижение в фольклоре культа многочисленных святых ученого происхождения. Тем не менее, эта контаминация клерикальной мысли и народного верования («народное» в эту эпоху почти равнозначно «светскому») оставляет различие и даже противостояние двух ментальностей и двух восприятий. С одной стороны, клерикальной культуры, имеющей все средства для того, чтобы закрепить триумф добра над злом и навязать четкие различия. С другой стороны, культуры фольклорной, традиционно осторожной в выборе предпочтений сил, у которых не отнимается их амбивалентность, неоднозначных, коварных, готовых благодаря удачным приношениям обернуться не только безвредными, но и благотворными природными силами, воплощенными в драконе.
Таким образом, с VI по XIII век происходит поразительная эволюция. У Фортуната христианская манихейская интерпретация еще окончательно не оформлена, но ее направленность достаточно ясна, чтобы отбросить двойственность народных толкований. В расцвете Средневековья церковная интерпретация достигает своего окончательного выражения, но она вынуждена сосуществовать с интерпретацией фольклорной, нейтральной, подспудной.
Нам кажется вероятным, что этот прорыв датируется XII веком и выражает давление светской народной культуры, которая устремляется в ворота, открытые в XI-XII века культурой светской аристократии, насквозь пронизанной единственной культурной системой, находящейся вне клерикального круга, а именно системой фольклорных традиций. Парижский пример будет в таком случае совершенным образцом: каменный клерикальный дракон и ивовый фольклорный дракон современны друг другу. Один ходит вокруг другого, как бы в насмешку, но не преступает ворот храма, охраняемых вторым.
Отсутствие любых точных документов о драконе св. Марцелла не дает нам права пренебречь гипотезой о том, что прецессионный дракон св. Марцелла якобы появился во время второй великой волны фольклорного натиска, волны XV века, которая, впрочем, относится скорее к Ренессансу, чем к Средним векам. Но даже в этом случае отмеченное нами парадоксальное сосуществование действительно имело место, хотя оно и проявилось лишь в конце Средневековья. Отметим к тому же, что оно исчезло до Революции и что событийное объяснение этому еще отсутствует. Хотя мы и не можем подтвердить примерную дату, 1730 год, заявленную Дюлором, она кажется нам вероятной. Ибо ко времени Революции дракона больше нет и аналогичный дракон св. Лу из Труа, называемый Chair-Salee, исчезает по суровому слову епископа, который запрещает эту «непристойную фигуру» 25 апреля 1728 года, «дабы прекратить на будущее столь вредное оскорбление святости нашей религии». Просветительское умонастроение XVIII века, затронув часть высшего духовенства, позволяет церковной культуре одержать верх над культурой народной, торжествовать победу, которая не далась средневековому обскурантизму. Такова сложность великих сдвигов в сфере коллективного восприятия.
Не поддались ли мы в ходе нашего разбора демону фольклора и не впали ли в изначальное заблуждение, неправомерно попытавшись разделить, с одной стороны, церковную интерпретацию — что, по всей видимости, было неизбежно, но в целом верно постольку, поскольку в вопросе, действительно принципиальном для всей христианской теологии добра и зла церковь настаивает на последовательной интерпретации символики дракона, а с другой стороны — интерпретацию фольклорную? Мы не забыли, по выражению Андре Бараньяка, «многофункционального характера традиций» и не хотели, повторяя слова Дюмона, заменять «ясность на непонятность, рациональность на иррациональность», рискуя свести «народную реальность к чему-то другому». Фольклорные изыскания могут принести истории и гуманитарным наукам определенную пользу, только если уважать их специфику, в глубине которой явления контаминации остаются фундаментальными. Здесь мы хотели лишь осветить сложность темы, которая могла бы показаться простой наивному читателю Фортуната и неискушенному созерцателю скульптур собора Парижской богоматери. Наш прием историка заключается только в учете отсутствия или наличия документов и в попытке восстановить хронологию достаточно протяженных ритмов, чтобы дать показательный контекст для феноменов восприятия и ментальности, здесь изучаемых. Надеемся, что наше описание игровой и двойственной прелести этой дьяблери- дракона св. Марцелла Парижского — не вышло слишком тяжеловесным.
СВЯТОЙ МАРЦЕЛЛ ПАРИЖСКИЙ И ДРАКОН
Обратимся теперь к тому блестящему чуду (mysterium), которое хотя и было по времени последним, есть первое по необыкновенной важности (in virtute). Одна госпожа, благородная по происхождению, но подлая по репутации, порочащая злым делом сияние своего рождения, окончив свою короткую жизнь, чему рад был свет, отправилась к месту своего погребения, сопровождаемая тщеславной свитой. Едва была она там схоронена, как после погребения случилось происшествие, рассказ о котором наполняет меня ужасом. Вот где о покойной раздается двойной плач. Дабы пожрать ее труп, исправно стал приходить гигантский змей, а если быть ясным, именно сам дракон стал местом погребения этой женщины, члены которой пожирало чудовище. Таким образом, на этих несчастных похоронах могильщиком был змей, а тело после смерти не могло обрести покоя, ибо, хотя конец жизни предоставил ему место пребывания, наказание предписало ему вечно изменяться. Отвратительная и ужасная судьба! Женщина, которая на этом свете не соблюла чистоту брака, не заслужила того, чтобы покоиться в могиле, так как змей, вовлекший ее, живую, в преступление, снова терзал ее труп. Тогда члены ее семьи, проживавшие по соседству, услышав шум, прибежали, обгоняя друг друга, и увидели огромное чудовище, которое выходило из могилы, раскручивая свои кольца, и, внясь по земле своей большой массой, сотрясало воздух своим хвостом. Устрашенные этим зрелищем, люди побросали свои жилища. Узнав про это, святой Марцелл понял, что должен победить кровавого врага. Он собрал население города и пошел во главе, затем, приказав горожанам остановиться, но, оставшись сам на виду у народа, один, ведомый Христом, отправился к месту битвы. Когда змей вышел из леса, чтобы войти в могилу, они встретились. Святой Марцелл принялся молиться, а чудовище, смиренно склонив голову, стало просить о прощении, повиливая хвостом. Тогда святой Марцелл ударил его трижды по голове своим посохом, провел епитрахилью вокруг его шеи и явил свою победу на глазах у горожан. Вот таким образом на духовном ристалище, с народом в роли зрителя, он сразился с драконом. Ободренный народ бросился к своему епископу, чтобы увидеть его плененного противника. Тогда с епископом во главе на протяжении почти трех миль все следовали за чудовищем, воздавая хвалу Господу и прославляя поражение врага. Тогда святой Марцелл строго выговорил чудовищу, сказав: «Отныне или оставайся в пустыне, или схоронись в воде». Чудовище вскоре исчезло, и никогда больше не находили его следов. Таким образом, защитой отчизны явился один-единственный священник, своим слабым посохом покоривший противника вернее, чем, если бы он пронзил его стрелами, ибо, поражаемый стрелами, тот мог бы их отбить, если бы чудо его не побороло. О великий святой муж, который могуществом своего легкого посоха показал, где была сила, и слабые пальцы которого стали оковами змея! Так личное оружие победило общего врага, а единственная жертва вызвала рукоплескания общей победе. Если сравнить с подвигами заслуги святых, Галлия должна восхищаться Марцеллом, подобно тому, как Рим восхищается Сильвестром, и подвиг первого выше, ибо он заставил дракона исчезнуть, тогда, как второй лишь запечатал его пасть.
Venanftus Fortunatus. Vita Sancti Marcelli, cap. X (MGH, скрипт. Rer. Mer. IV/2.18852. P. 53-54.)



