Из книги Дж. Р. Р. Толкин «Профессор и чудовища»
Толкин Дж. Р. Р. «Профессор и чудовища»
Эссе
Перевод с английского и латинского Н. Горелова
Перевод с английского М. Каменкович, С. Степанова
Перевод с древнеисландского Б. Ярхо
В книгу вошли статьи и лекции Дж. Р. Р. Толкина, посвященные древнеанглийской и средневековой литературе, изучение которой и вдохновило академического профессора на создание миров Средиземья. Продолжая традицию, заданную Дж. Р. Р. Толкином, мы поместили в сборник ряд текстов, послуживших литературными и историческими прототипами его художественных образов. Большинство произведений, опубликованных в этом издании, впервые представлены на русском языке.
Перевод Н. Горелова
II.
III. Ofermod — чрезмерная гордость
Б. LOF и DOM, Ад и Небеса
В. Строки 175-188
О переводе «Беовульфа»
(По поводу перевода и лексики)
М. Каменкович, С. Степанов
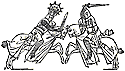
В книгу вошли лекции и размышления профессора Дж. Р. Р. Толкина1, посвященные его главной страсти — миру древнеанглийской и средневековой литературы. Отобрать тексты для настоящего издания было не так уж просто. Сборник открывается текстом лекции ««Беовульф»: чудовища и литературоведы», прочитанной в 1936 г., как раз незадолго до того, как писатель сел за стол, чтобы взяться за продолжение «Хоббита», из которого выросла эпопея «Властелин колец». Эссе «Ofermod», прилагавшееся к поэме «Возращение Бюрхнота, сына Бюрхтельма», было опубликовано в 1953 г., как раз в то время, когда во «Властелине колец» уже была поставлена точка и рукопись ушла в печать. Весной того же года в университете Глазго Толкин принял участие в ежегодных чтениях памяти У. П. Кера (1855—1923)1, избрав предметом своей лекции поэму «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь».
Отбирая тексты, которые ранее были практически неизвестны отечественному читателю, мы стремились в первую очередь представить размышления Дж. Р. Р. Толкина о литературе — предмете как таковом, сформировавшиеся у него, накануне издания «Хоббита» и «Властелина колец» (не следует забывать, что другим «коньком» профессора была лингвистика и его лингвистические работы вполне могли бы составить отдельный, хотя и адресованный специальной аудитории том). Немаловажная особенность: все представленные в этой книге работы Дж. Р. Р. Толкин сам опубликовал еще при жизни.
Хотя для широкой аудитории Дж. Р. Р. Толкин прежде всего прозаик, в то время как его исследования посвящены почти исключительно произведениям поэтическим, более того, за вычетом работы о филологических изысканиях Джеффри Чосера, поэмам, написанным аллитерационным слогом. Аллитерационному стихосложению посвящена вторая часть статьи «О переводе «Беовульфа»», однако она рассчитана на англоязычного читателя и была опущена в этом сборнике Дж. Р. Р. Толкин подчеркивал: «Древнеанглийскую поэзию называют аллитерационной, однако это название неточно по двум причинам. Аллитерация хотя и важна, но не играет основополагающей роли. Даже если этот стих окажется «белым», он все равно сохранит свою ритмическую структуру. Tак называемая «аллитерация» определяется не буквами (letters), a звуками. Аллитерация, или заглавная рифма, ежели сравнивать ее с рифмой конечной, слишком кратка и слишком разнообразна в своих проявлениях, чтобы допустить простое согласование букв или «зрительную аллитерацию». Аллитерация в стихе означает согласование ударных элементов, начинающихся с одной и той же согласной или не имеющих согласных в своем начале (таким образом, все слова, начинающиеся с любой из ударных гласных, аллитерируют, например old и eager)... Главная метрическая функция аллитерации заключается в том, чтобы соединить два самостоятельных и сбалансированных полустиха в единую строку1».
Издательство адресует книгу тем, к кому обращался в своих лекциях и выступлениях сам Дж. Р. Р Толкин, то есть в первую очередь студентам и аспирантам, готовым в своем познании предмета выйти за узкие рамки учебников и кратких обзоров литературы, поэтому публикация снабжена рядом дополнений, где представлены средневековые тексты, помогающие читателю не только глубже проникнуть в мысль самого профессора, но и одолеть «Беовульфа» как поэму, пришедшую из глубокого прошлого.
Дж. Р. Р. Толкин отмечал, что истинный облик «Беовульфа» — это не стройный ряд пронумерованных стихов, а записанное строка за строкой повествование, оказавшееся среди других повествований, ему подобных. Причем, как удалось обнаружить и достопочтенным предшественникам, и последователям Толкина-ученого, произошло это вовсе не случайно. Именно поэтому крайне важно ощутить контекст, увидеть не просто чудищ «Беовульфа», но и других современных ему чудовищ и драконов средневековой литературы, ибо, по мнению самого Дж. Р. Р. Толкина: «...один дракон, пусть даже самый горячий, лета не делает, да и целое стадо тоже».
|
«Когда в 1954 году я спросил одного из своих коллег, читал ли он только что опубликованное «Братство кольца», он резко ответил: «Нет! Вот когда он напишет книгу о древнеанглийском или среднеанглийском, — я прочту!»» Брюс Митчелл |
Сложно поверить, но существуют еще на свете люди, для которых Фроди — вовсе не легендарный хоббит или надпись на стене нью-йоркской подземки, а имя короля, правившего датчанами в стародавние времена. И эльфы — вовсе не обитатели Ривенделла. И Дж. Р. Р. Толкин — автор нескольких статей, освещающих вопросы этимологии древнеанглийского языка. Все знают Толкина-писателя, но лишь немногие знакомы с Толкином-ученым, Дж. Р. Р. Толкин (1892—1973) — профессор удивительно «непродуктивный», за вычетом и по совокупности его наследие вряд ли перевалило за две дюжины статей, общим объемом существенно уступающих самому обыкновенному «Хоббиту». Многие из его работ остаются неопубликованными — и виной тому в первую очередь досадный перфекционизм мастера, доделывавшего и переделывавшего их на протяжении всей жизни.
Пуская на занятиях в лицо своим студентам кольца дыма, декламируя и бормоча (говорят, приходилось садиться поближе, чтобы разобрать, о чем он толкует), год за годом профессор Толкин разбирал с ними «Беовульфа», «Исход», «Морестранника» и другие фрагменты поэзии англосаксов. Естественно, накапливались заметки, поправки, уточнения, комментарии и... переводы. Ни один из плодов этой работы Дж. Р. Р. Толкин так и не решился опубликовать при жизни. То же самое можно сказать о переводе «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря», «Сэра Орфео» и «Жемчужины» («Перла») — средневековых английских поэм. В 1925 г. в соавторстве с Э. В. Гордоном Дж. Р. Р. Толкин подготовил издание «Сэра Гавейна», предполагалась также совместная работа над «Перлом», но Э. В. Гордону пришлось заканчивать дело в одиночку, хотя Дж. Р. Р. Толкин и приложил руку к вступительной статье. Из прижизненных публикаций можно отметить также текст «Ancerne Wisse» — устава для монашек, который Дж. Р. Р. Толкин подготовил к изданию по рукописи, хранящейся в библиотеке Колледжа Тела Христова в Кембриджском университете.
В 1953 г Дж. Р. Р. Толкин опубликовал свое видение событий 991 г., описанных в позднем древнеанглийском поэтическом отрывке «Битва при Мэлдоне», представив его в пространном поэтическом диалоге между двумя персонажами «Возвращения Бюрхнота, сына Бюрхтельма». Но введение, а в особенности заключение к этой поэме, спровоцировали продолжающуюся и по сей день дискуссию в кругах сугубо академических.
Устремление Дж. Р. Р. Толкина к отечественному наследию, таким образом, было весьма своевременным: как профессор он приложил немало усилий, чтобы в корне изменить подход к преподаванию истории языка и литературы. И то, что Дж. Р. Р. Толкин вольно или невольно нашел, с чего начать, а этим началом оказался «Хоббит»,— явление само по себе примечательное. Профессор принес в аудиторию атмосферу текста, поставил перед студентами задачу понять и ощутить материал (признаться, это было малохарактерным для того времени, остается в каком-то смысле исключением и сегодня). Дж. Р. Р. Толкин вырастил многих, «Ода филологу», написанная его оксфордским студентом У. X. Оденом, тому свидетельство. Другой, и, может быть, уникальный пример — сын Кристофер Толкин, начавший с изучения скандинавских преданий и затем посвятивший себя воссозданию полной истории Средиземья, публикации необозримого наследия отца. Средиземье немало позаимствовало от Средневековья, но одно ни в коем случае нельзя воспринимать как точную проекцию другого. Дж. Р. Р. Толкин, подобрав себе подходящее и самое разнообразное вооружение из арсенала науки, отправился странствовать по просторам художественного произведения.
Лекция ««Беовульф»: чудовища и литературоведы» была прочитана в 1936 г. перед весьма почтенной аудиторией. В 1924 г. выступлением сэра Израэля Голланца открылась череда лекций, которые каждые два года читаются перед ученым собранием и посвящены англосаксонской литературе, языку и связанному с ними периоду истории. После смерти сэра Израэля, с 1930 г., лекции стали мемориальными и получили его имя. Таким образом, выступление Дж. Р. Р. Толкина было седьмым по счету и наверняка остается самым известным, хотя лекции читаются и по сей день. Дж. Р. Р. Толкин остановился на теме чудовищ, Гренделя и дракона как раз в тот момент времени, когда в наибольшей степени требовалось преодоление всего героического.
Профессор был глубоким и весьма утонченным знатоком истории языка, но ему было очевидно: сказитель, создавший «Беовульфа», собственно, ничем от нас, кроме выдающихся моральных качеств и поэтического дарования, не отличается. Мы не заглядываем, в словарь, прежде чем поместить в текст какое-либо слово (может быть, в каких-то случаях это и было бы не лишним). Поэтому не надо думать, что автор вчеканивал каждую формулу в строки своего сказания, имея в виду всю палитру значений и заранее подготавливая почву, которую затем будут окучивать филологи и литературоведы. Большинство из филологических выкладок профессора Толкина посвящено тому или иному понятию, зачастую географическому названию как феномену, но отнюдь не как непреложному факту, призванному сыграть роль гвоздя, на котором держится вся конструкция повествования. Не только литературоведы, но и лингвисты могли бы у него этому поучиться. Дело ведь даже не в истории происхождения слова, а в том, куда нас эта история приводит. В самом начале выступления перед академической аудиторией Дж. Р. Р. Толкин ставит перед своими слушателями эту проблему, описывая творческий метод работы достопочтенного Джозефа Босворта, автора наиболее полного словаря древнеанглийского языка. Босворт искал значение слова из контекста, в Меньшей степени обращаясь к сравнительному лингвистическому анализу (именно в этом упрекал его Освальд Кокейн). Дж. Р. Р. Толкин, и это с примечательной ясностью сформулировано в заметке «О переводе «Беовульфа»», призывает своих студентов к сочетанию двух подходов: происхождение слова должно помогать глубже проникнуть в контекст, и именно произведение, а иногда и просто внешние обстоятельства могут дать нам подсказку, указывающую на особенности его употребления.
Делясь со студентами опытом, как переводить «Беовульфа», Дж. Р. Р. Толкин подчеркивает, что «дистанция времени» достигается благодаря верно выбранной интонации. В каком-то смысле времена Беовульфа столь же далеки от сказителя, сочинившего поэму, сколь и этот сказитель далек от нас. Автор оказывается на полпути между героем и теми, кто воспринимает его произведение. Вот из чего рождается ощущение глубины.
«Беовульф» играет в творчестве Дж. Р. Р Толкина двойную роль. С одной стороны, древняя поэма была интересна Толкину-ученому, с другой — фабула «Беовульфа» — источник вдохновения для Толкина-писателя Из всех произведений, которые могли оказать влияние на создание «Хоббита», «Властелина колец» и эпопеи по истории Средиземья, «Беовульфа» всегда ставят на первое место. Специалист в области древне- и среднеанглийского языка, Дж. Р. Р. Толкин обращался к своей читательской аудитории, подготавливая ее с запасом «на вырост», предполагая, что из среды вырастут студенты, склонные заниматься историей английской словесности. Что бы ни говорили о приключениях Бильбо, рассказ о них — и не в последнюю очередь — является моделью, «прототипом» «Беовульфа». В «Хоббите» в наличии дракон, до него надо добраться, его надо сокрушить, Бильбо ворует чашу, победа над драконом дарована отнюдь не главному герою, а смерть чудовища лишь создает еще большие проблемы. Сколь бы ни были тривиальны приводимые здесь параллели, все они говорят в пользу того, что приключения маленького (ростом) хоббита должны были подготовить читателя к встрече с драконом в самом значительном произведении англосаксонской словесности. Путь из Шира и Средиземья ведет туда, где национальная литература призвана встать в полный рост. Именно поэтому постижение «Беовульфа» есть в конечном счете и постижение мира самого Дж. Р. Р. Толкина.
«БЕОВУЛЬФ»:
ЧУДОВИЩА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ1
Лекция, прочитанная 25 ноября 1936 года
В 1864 году преподобный Освальд Кокейн (1807—1873)2 писал про преподобного доктора Джозефа Босворта (1789—1876), профессора англосаксонской филологии: «Я хочу поделиться с окружающими весьма увлекающим меня убеждением в том, что доктор Босворт не столь прилежен в своих исследованиях, как в чтении книг... напечатанных на старом добром английском, или, как его еще называют, англосаксонском языке. И в этом он весьма преуспел, для профессора конечно» (1)3. Эти слова, вызванные недовольством словарем Дж. Босворта, были, очевидно, несправедливы.
2 Имена исследователей, упоминаемые Дж. Р. Р. Толкином, даются с инициалами и годами жизни.
3 Примечания, принадлежащие самому Дж. Р. Р. Толкину — по клику на числах в скобках, а возврат в текст — по клику на номере примечания. — Прим. кодера :).
Если бы Дж. Босворт и О. Кокейн жили сегодня, последний, возможно, обвинил бы автора словаря в пренебрежении к историографии по его предмету, книгам, которые, в свою очередь, написаны о книгах, написанных на так называемом англосаксонском языке. Сами же оригиналы затерялись бы среди горы прочей литературы.
Это становится особенно заметным, когда речь заходит о «Беовульфе»1, ведь так его обычно называют. Я, конечно, читал и само это произведение, равно как и почти всю исследовательскую литературу, посвященную ему. Однако боюсь, недостойный последователь и приемник Джозефа Босворта, я не был столь прилежен, чтобы ознакомиться со всем, так или иначе касающимся этого произведения. Тем не менее я, пожалуй, прочитал достаточно, чтобы составить собственное мнение о предмете: хотя Беовульфиана изучается на различных кафедрах, она весьма отстает от других дисциплин. Дело в том, что почти невозможно найти статьи, рассматривающие «Сказание о Беовульфе» с точки зрения его литературных достоинств и недостатков.
О «Беовульфе» говорится лишь, что одним из заметных слабых мест произведения является неверная расстановка акцентов, то есть факты незначительные оказываются в центре внимания, а важные аспекты, наоборот, уходят на задний план. Именно эту точку зрения я и хотел бы обсудить.
Я считаю, что подобное мнение о поэме вовсе несправедливо, зато оно абсолютно применимо к литературе о ней. «Беовульф» использовался как собрание фактов и на удивление менее усердно исследовался как литературное произведение. Сегодня я хотел бы поговорить о «Беовульфе» именно как о поэме, и, хотя было бы самонадеянно пытаться светскому человеку вроде меня тягаться с этой кафедры со всей мудростью сообщества ученых мужей, у светского человека на этой кафедре шансов все же больше1. Однако есть немало такого, о чем стоило бы сказать в рамках избранной мною темы чудовищ — Гренделя и дракона, а именно в таком качестве они предстают в английском литературоведении. И в этих заданных мною рамках я готов поделиться с вами определенными заключениями относительно структуры и фабулы поэмы.
|
Был рядом с ним, удачливый во всем,
Судейского подворья Эконом. На всех базарах был он знаменит: Наличными берет или в кредит... Не знак ли это благости господней, Что сей невежда богу был угодней, Ученых тех, которых опекал И за чей счет карманы набивал? |
Состояние, в котором сейчас пребывает Беовульфиана, имеет свое историческое объяснение. Объяснение важное, поскольку речь идет о критике самих критиков. Немного углубимся в историю: краткости ради я попытаюсь представить свой взгляд в аллегорической форме. Странствия «Беовульфа» по волнам современной науки начались с того, что он был окрещен Хэмпфри Уэнли (1672—1726) «поэмой» — poeseos anglo-saxonic![]() egregium exemplum («выдающийся пример англосаксонской поэзии»). Но доброй феей, которую затем позвали позаботиться о ее дальнейшей судьбе, оказалась История. Она привела с собой Филологию, Мифологию, Археологию и Лагографию (2) — все дамы высшего общества. Но где же крестная дитя? О поэтике обычно забывают, а если пускают, то с черного крыльца, иногда не дальше порога. ««Беовульф», — говорят, — это вовсе не ваше дело и, уж во всяком случае, не тот протеже, которым вам стоит гордиться. Это исторический документ, представляющий интерес для высшего света». Да, это исторический документ, и именно в этом качестве он прежде всего рассматривается и препарируется. И хотя суждения относительно того, какой именно пласт истории этот документ фиксирует, немало изменились со времен Гримура Йонссона Торкелина (1752—1829), давшего «Беовульфу» название «De Danorum Rebus Gestis» («О деяниях датчан»), в общем подход остается прежним. В новейших исследованиях он сформулирован яснее некуда. В 1925 г. профессор Арчибальд Стронг подготовил поэтический перевод поэмы (3), однако четырьмя годами ранее он утверждал: ««Беовульф» — это картина целой цивилизации Германии, описанной Тацитом. Самое интересное в поэме отнюдь не относится к категории чистой литературы. «Беовульф» — важный исторический документ» (4).
egregium exemplum («выдающийся пример англосаксонской поэзии»). Но доброй феей, которую затем позвали позаботиться о ее дальнейшей судьбе, оказалась История. Она привела с собой Филологию, Мифологию, Археологию и Лагографию (2) — все дамы высшего общества. Но где же крестная дитя? О поэтике обычно забывают, а если пускают, то с черного крыльца, иногда не дальше порога. ««Беовульф», — говорят, — это вовсе не ваше дело и, уж во всяком случае, не тот протеже, которым вам стоит гордиться. Это исторический документ, представляющий интерес для высшего света». Да, это исторический документ, и именно в этом качестве он прежде всего рассматривается и препарируется. И хотя суждения относительно того, какой именно пласт истории этот документ фиксирует, немало изменились со времен Гримура Йонссона Торкелина (1752—1829), давшего «Беовульфу» название «De Danorum Rebus Gestis» («О деяниях датчан»), в общем подход остается прежним. В новейших исследованиях он сформулирован яснее некуда. В 1925 г. профессор Арчибальд Стронг подготовил поэтический перевод поэмы (3), однако четырьмя годами ранее он утверждал: ««Беовульф» — это картина целой цивилизации Германии, описанной Тацитом. Самое интересное в поэме отнюдь не относится к категории чистой литературы. «Беовульф» — важный исторический документ» (4).
Эта вступительная ремарка сделана мною неспроста, потому что, на мой взгляд, не только А. Стронг, но и куда более авторитетные исследователи задыхаются в облаке гнилой пыли, поднятой педантами. Уместно спросить, почему это мы вдруг должны рассматривать эту или любую другую поэму в первую очередь как исторический документ? Подобный подход имеет целый ряд доводов «за»: во-первых, если кого-то вовсе не интересует поэзия, а заботит только поиск и вычленение информации; во-вторых, если в так называемой поэме и вовсе не содержится никакой поэзии. Первый случай меня вовсе не занимает. Подход историка является, разумеется, абсолютно законным, даже если он вовсе не вносит вклад в литературоведение (а с какой стати ему об этом заботиться), но все это хорошо до тех пор, пока подобный подход не подменяет литературоведческое исследование. Для профессора Биргера Нермана, изучающего шведские корни, «Беовульф», вне всяких сомнений, важный исторический документ, но перед этим профессором и не стояло задачи написать историю английской поэзии.
Что касается второго подхода, то, на мой взгляд, предлагать литературоведческий анализ, оценивающий поэму, произведение, обладающее, по крайней мере, метрикой, только как представляющее исторический интерес, то же самое, что утверждать, будто она вовсе не имеет никаких литературных достоинств. Так что и говорить тут почти не о чем. Однако это вовсе несправедливо по отношению к «Беовульфу». «Беовульф» никак не «слабая» поэма, имеющая исключительную историческую ценность, на самом деле «Беовульф» невероятно интересен и столь силен с точки зрения поэзии, что она едва ли не затмевает его историческое содержание и находится вне всякой зависимости от исторического контекста, выявленного исследователями (например, от того, кем именно был Хигелак и когда он правил).
На удивление, поэтические достоинства «Беовульфа» привели к тому, что это произведение немало потеряло в глазах литературоведов. Иллюзия исторической правды и многоплановость, которые делают «Беовульф» объектом крайне привлекательным, во многом являются плодом искусства. Автор руководствовался своим чутьем истории — на самом деле это черта, присущая древнеанглийскому характеру (к тому же связанная с известной меланхолией), — и «Беовульф» является превосходным воплощением оного. Но автор создавал поэму, а не писал историю — поклонники поэзии могут спокойно изучать проявленное им поэтическое искусство и мастерство, в то время как ищущим историческое зерно следует остерегаться, как бы не попасть под очарование поэзии.
Почти все нарекания, равно как и все похвалы, расточаемые «Беовульфу», исходят из представления о том, что он был тем, чем он, собственно, не был, например варварским, языческим, тевтонским, аллегорией (политической или мифологической), а чаще всего эпосом. К этому следует присовокупить разочарование тех, кто обнаружил, что «Беовульф» существовал сам по себе, а не был — несмотря на все упования ученых — героической песнью, историей Швеции, собранием германских древностей или «суммой теологии» для Северной Европы.
Я бы хотел подвести итог всем этим усилиям с помощью одной аллегории. Вот, например, унаследовал человек поле, а на нем свалка камней — руины былых палат. Какие-то камни уже пошли на строительство нового дома, в котором он теперь поселился неподалеку от дома своих предков. Из оставшихся камней он взял да и построил башню. Пришедшие друзья сразу заметили (им даже не понадобилось взбираться по ступеням башни), что камни, из которых она сложена, когда-то были частью древнего сооружения. Поэтому они немало потрудились, чтобы опрокинуть башню, — а все в надежде найти какие-нибудь древние надписи на ее камнях, чтобы выяснить, откуда и когда предки этого человека заполучили в свои руки подобный строительный материал. Кое-кто вообще заподозрил, что под землей находятся залежи угля, и принялся копать, вовсе позабыв о камнях. Сначала все говорили: «Самое интересное — это башня». Повалив, стали прибавлять: «Сколько в ней глупости!» И даже потомки этого человека, которые вполне могли бы задуматься над мотивами его поступков, стали ворчать: «Странный он был тип — взял и использовал древние камни для строительства бесполезной башни! Лучше бы уж восстановил старый дом. У него не было никакого представления о гармонии! А ведь с вершины этой башни человек смотрел на просторы моря...» [К статье Толкина Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь».]
Я надеюсь, мне удастся показать всю оправданность этой аллегории даже по отношению к литературоведам современным и проницательным, радеющим прежде всего о литературе. Придется пронестись над головами нескольких поколений литературоведов сквозь извилистое ущелье, заключенное между скалами, противостоящими друг другу (5). С одной стороны, «Беовульф» — это так и не сложившийся национальный эпос, развитию которого положила конец латинская ученость. С другой — он появляется на свет как подражание Вергилию и является плодом той самой образованности, которую принесло с собой христианство. С одной стороны, это невнятное и слабое повествование, с другой — повествование, построенное по всем канонам книжного эпоса. Для одних это плод тупоголовых и нетрезвых англосаксов (французская точка зрения), для других — цикл языческих песен, обработанных монахами, труд ученого, но небрежного христианина, являвшегося собирателем древностей, плод гения — исключительное и выдающееся для своего времени произведение, причем гений наверняка мог бы и намного лучше, да не сделал (такая точка зрения появилась в последнее время). Это грубая сказка (общий хор), поэма, восходящая к аристократическому или придворному кругу (отдельные голоса); сборная солянка; это социологический, этнографический и археологический источник; это мифологическая аллегория (древние голоса, почти утихшие вдалеке, но не такие отдаленные, как некоторые из нынешних); грубый и неотесанный; шедевр стихосложения; не имеет никакой формы, слабое построение; проницательная аллегория, отражающая политическую жизнь своего времени (покойный Джон Эрл, при некоторой поддержке Р. Гирвана, хотя они указывают на совершенно разные периоды); обладает целостной композицией; халтурная и дешевая подделка (впечатляющая интенция); национальный эпос; перевод с датского; привезен купцами из Франции; обуза программы по английской литературе и (финальный общий хор, к радости) заслуживает изучения.
Неудивительно, что после всего этого появляется необходимость составить какое-то мнение или подвести итог. Но только благодаря тому, что «Беовульф» — это поэма, которой присуща поэтическая значимость, любой вывод или итог вообще достижим. Ворчливые историки и болтуны антиквары блуждают в дремучих лесах гипотез и догадок, порхая от одного дерева тум-тум к другому, — благородные животные, чье урчание порою радует слух, но хотя огонь в их глазах и может иногда навести на след, много при таком освещении не увидишь.
Тем не менее в этом лесу множество разнообразных тропинок. Постепенно с годами очевидное (нередко являющееся плодом глубоких аналитических штудий) было установлено; перед нами поэма, написанная англичанином, использовавшим древний и по большей части традиционный материал. Наконец-то после столь долгих рассуждений о том, откуда же этот материал взялся, является ли он исконным или оригинальным (как на это вообще можно дать ответ?), мы можем заняться изучением того, что именно из этого материала построено. Задаваясь этим вопросом, мы обнаруживаем, что даже в сфере общего литературоведения еще много не освоено теми учеными и достопочтенными наставниками, от которых мы, смиренные, произошли.
Я рассмотрю вызывающие у меня неудовлетворенность положения, используя подход, выработанный У. П. Кером (1855—1923), чье имя и память я весьма почитаю. Само собой, он был бы достоин уважения, даже оставаясь нашим современником и не ellor gehworfen on Frean w![]() re («отправившись в пределы предвечного») на вершину горы в самом сердце Европы, которую он так любил1. Великий ученый, выдающийся литературовед, он нередко показывал зубы литературоведам. Тем не менее я не могу избавиться от ощущения, что при изучении «Беовульфа» он был стеснен слабостью своего величия; история и фабула иногда представлялись банальными и избитыми — причем куда в большей степени для него самого, чем для поэтов древности и их слушателей. Гном со своей кочки порой видит то, что пропустил странствующий великан, обошедший множество земель. Учитывая то, что в те времена литература была не столь уж широким полем, а в распоряжении человека был куда меньший арсенал идей и тем, следует попытаться ухватить и оценить всю весомость и глубину чувства, с которым люди относились тогда к тому, чем владели.
re («отправившись в пределы предвечного») на вершину горы в самом сердце Европы, которую он так любил1. Великий ученый, выдающийся литературовед, он нередко показывал зубы литературоведам. Тем не менее я не могу избавиться от ощущения, что при изучении «Беовульфа» он был стеснен слабостью своего величия; история и фабула иногда представлялись банальными и избитыми — причем куда в большей степени для него самого, чем для поэтов древности и их слушателей. Гном со своей кочки порой видит то, что пропустил странствующий великан, обошедший множество земель. Учитывая то, что в те времена литература была не столь уж широким полем, а в распоряжении человека был куда меньший арсенал идей и тем, следует попытаться ухватить и оценить всю весомость и глубину чувства, с которым люди относились тогда к тому, чем владели.
В любом случае У. П. Кер был плодотворен, его литературоведение говорило словами язвительными и весомыми, и (рискну предположить) не в последнюю очередь потому, что само по себе было готово к критике. Его слова и суждения часто цитируют, перефразируют, обсуждают, иногда даже забывая о существовании первоисточника. Не откажу себе в том, чтобы непременно привести здесь отрывок из «Темных веков»:
«Достоинствам «Беовульфа» вполне можно дать трезвую оценку, хотя пламенный энтузиазм неизбежно приведет к преувеличениям, а трезвый вкус с предубеждением отнесется к Гренделю и огнедышащему дракону. Главный недостаток «Беовульфа» в том, что именно они и составляют всю фабулу. Герой, подобно Гераклу или Тезею, занимается истреблением чудовищ. Но жизнь Геракла и Тезея была наполнена множеством других событий, они не только убивали гидр и прокрустов. Беовульф же занят только этим: сначала он убивает Гренделя и его мать в Дании, потом отправляется в родные земли гаутов и остается там, ожидая, пока колесо времени не принесет его к встрече с огнедышащим драконом и своим последним подвигом. Слишком прямолинейно и просто. Конечно, все три главных эпизода хорошо сложены и подогнаны, они не представляют собой череду повторов. При переходе от единоборства с Гренделем на поверхности к подводной битве с матерью Гренделя повествование меняет характер и тон, отношение к дракону — опять иное. Но истинная красота и истинная ценность «Беовульфа» состоят в достоинстве стиля. Построение на удивление слабое, смысл — нелепый. В то время как главная линия по своей простоте — чистейшей воды образец героических легенд. Вокруг нее, в особенности в исторических аллюзиях, открывается целый мир трагедии, где фабула весьма отстоит от той традиции, что представлена в «Беовульфе», и более напоминает трагические повествования Исландии. Однако, несмотря на этот существенный недостаток, перекос, в результате которого в центре внимания оказывается незначительное, а важные вещи — на периферии, поэма «Беовульф», вне всяких сомнений, имеет огромное значение. Незамысловатая вещица, она несет дух и устои, которые ставят ее создателя в ряд с самыми благородными авторами» (6).
Этот абзац был написан более тридцати лет назад, но с тех пор остается почти непревзойденным. Он оказывал и оказывает огромное влияние на читателей, и в особенности в нашей стране, прежде всего благодаря возникающему при прочтении парадоксальному (даже для тех, кто принимает данную точку зрения) ощущению, что «Беовульф» обретает характер «загадочной поэмы». Главное достоинство этого пассажа отнюдь не в том, за что его обычно ценят, а в привлечении внимания к чудовищам, пусть даже и вопреки нормам хорошего вкуса. А контраст, установленный между существенными недостатками темы и структуры и достоинством, величественностью речи и хорошо отделанным финалом, стал общим местом для самого отборного литературоведения, причем вся эксцентричность этого парадокса оказалась позабытой — до такой степени приняли на веру слова классика (7). Например, профессор Р. У. Чамберс (1874—1942) в своем «Видсиде», там, где он рассматривает историю сына Фроды и его вражду с великим Домом Скильдингов, — история, которая присутствует в «Беовульфе» лишь как аллюзия, пишет: «Ничто так явственно не демонстрирует несоразмерность «Беовульфа», где «в центре внимания оказывается незначительное, а важные вещи — на периферии», чем эта данная мимоходом аллюзия истории Ингольда. Ибо в этом противостоянии между данным обещанием и долгом мести мы видим сюжет, к которому героические поэты прошлого относились с любовью, и ни за что не променяли бы его на стадо драконов».
Оставляя без внимания тот факт, что эта аллюзия играет в «Беовульфе» драматическую роль, этого уже самого по себе достаточно, чтобы оправдать ее присутствие и характер подачи. Автор не может нести ответственность за то, что сегодня в нашем распоряжении есть его поэма о Беовульфе и ни одной, посвященной Ингольду. Он не меняет одно на другое, а создает нечто совершенно новое. «Множество драконов» — в этой шейлоковской множественности скрывается язвительное жало, причем куда более острое, чем перо, приличествующее литературоведу, призванному быть лучшим другом поэта. Оно весьма напоминает о фразе из «Книги монастыря Св. Альбана», где поэт отзывается о своих критиках: «М-да, достоинство чибисов, проницательность мартышек, беспутство мошенников и гогот гусей!»
Что касается поэмы, то один дракон, пусть даже очень горячий, лета не делает, да и целое стадо тоже. Человек может за одного хорошего дракона получить столько, сколько на многих не променяет. И драконы, настоящие драконы, необходимые как для структуры, так и для самого замысла поэмы или предания, вообще-то встречаются очень редко. Если не принимать во внимание огромного и бесформенного Мирового змея, опоясывающего круг земной, грозу богов и безопасного для героев, у нас останется только дракон Вёльсунгов, Фафнир, и бич Беовульфа. В действительности оба они упоминаются в поэме.
Один присутствует в главной сюжетной линии, другой упоминается в хвалебной песне самому Беовульфу. Действительно, аллюзия по отношению к более знаменитому змею, которого убил Вёльсунг, доказывает, что поэт осознанно выбрал дракона (или видел, какую именно роль в сюжете играет дракон и в какой именно момент фабула должна до него добраться), хотя бы в той степени, в которой он постарался сравнить Беовульфа, сына Эктеова, с предводителем героев Севера, драконоубийцей Вёльсунгом. Он ценил драконов потому, что они встречались редко, а также потому, что были ужасными — совсем как некоторые в наше время. Еще они нравились ему как поэту, а вовсе не как трезвому зоологу, и на то у него была здравая причина.
Однако тут опять поднимает голову литературоведение прежнего толка, оно все еще присутствует в книге Р. У. Чамберса ««Беовульф» и героическая эпоха» — самом значительном исследовании, посвященном поэме. Загадка до сих пор не разрешена. Сказочный мотив стоит, подобно призракам былых исследований, мертвым, но никак не желающим успокоиться в своих могилах. Нам опять говорят, что главный сюжет «Беовульфа» — это грубая, варварская волшебная сказка. Конечно, это похоже на правду. Но то же самое можно сказать о сюжете «Короля Лира», ну разве что если вы не предпочитаете «грубой» прилагательное «тупая». Более того, нам сообщают, что подобного рода материи встречаются у Гомера, и там они занимают как раз полагающееся им место. «Волшебная сказка — хороший слуга, но плохой хозяин, — пишет Чамберс, в полной мере не осознавая всей важности сделанного им, чтобы спасти лицо Гомера и Вергилия, замечания. — В «Беовульфе» ей было позволено занять почетное место, превратив в эпизоды и отступления вещи, которые должны занимать главенствующее место в благовоспитанном эпосе» (8). Для меня остается неясным, почему воспитанность должна определяться выбором главенствующего. Отмечу только, что даже если это и так, то, очевидно, «Беовульф» не является «благовоспитанным» эпосом, потому что не является эпосом. Загадка все равно остается неразрешенной. И вновь возникает в дискуссиях, ведущихся в последнее время, будучи пониженной до статуса меланхоличного знака вопроса, словно этот парадокс стал причинять боль из-за наступившего от попыток его разрешить истощения мысли. В заключительной части лекции «Волшебная сказка и история Беовульфа», прочитанной в прошлом году, Р. Гирван сказал:
«Признаться, есть чему удивляться и над чем размышлять, но мы должны быть способны дать точные ответы на вопросы, которые возникают у людей относительно того, как поэт изображает своего героя. И если мы могли бы столь же определенно сказать, почему он выбрал именно этот сюжет, когда с нашей современной точки зрения, под рукой у него было так много сюжетов, куда более значительных, блестящих и наполненных человеческой трагедией, во всех отношениях куда более достойных гения, столь редкостно выдающегося для англосаксонского мира».
Все это кажется вызывающе странным. Некто осмеливается удивляться, не случилось ли чего с «нашим современным видением», если только оно представлено верно. Это более высокая похвала, чем та, которой могут удостоить ученые литературоведы, чья наука позволяет определять ценность подобных вещей, а они не желают снизойти до деталей, настроения, стиля и, наконец, в целом того эффекта, который производит на читателей «Беовульф». Однако все это оттого, что поэтический гений, а именно это нам хотят объяснить, был истрачен на бесполезную тему. Так, словно Мильтон попытался бы изложить историю о Джеке и Бобовом Стебле возвышенным стихом. Даже если бы Мильтон это сделал (а он был способен и на худшее), нам следовало бы задуматься и решить, действительно ли его поэтическое мастерство не оказало никакого влияния на тривиальный сюжет, как алхимия подействовала на простой металл, и остался ли он по-прежнему простым и ничтожным, когда процесс трансмутации был завершен. Величественный тон и чувство достоинства — одно это говорит, что над «Беовульфом» трудился ум возвышенный и созерцательный. Кто-то возьмется утверждать: невозможно, чтобы подобный человек написал более трех тысяч строк, доведенных до совершенства, на сюжет, который не заслуживал бы самого серьезного внимания и который остался слабым и приземленным даже после того, как труд был завершен. Или что в подборе материала, в расстановке приоритетов он мог продемонстрировать детскую простоту, которая по уровню уступает образу мыслей героев, выведенных им в своей поэме. Мне кажется куда более вероятной любая теория, которая подразумевает, что у созданного им был план, выстроенный достаточно прочно, чтобы выстоять и по сей день.
Слишком мало внимания обращалось на то, что возвышенную структуру можно обнаружить повсюду. Кюневульф, автор «Андрея», и, в особенности, автор «Гутлака» — все они слагали свои произведения возвышенными стихами, их язык отточен, слова весомы, чувства величественны, а ведь именно в этом, как нам говорят, заключается истинная красота «Беовульфа». Я думаю, нечего и спорить о том, что «Беовульф» красивее, а каждая строка более значима (пусть — а иногда такое случается — это одна и та же строка), чем в других пространных древнеанглийских поэмах. Но если отбросить совокупность общих элементов (характеризующих как язык, так и поэтическую традицию), в чем же тогда заключается особое достоинство «Беовульфа»? Оно заключается, как можно предположить, в теме и в целом в атмосфере, которую она создает. Потому что, если бы действительно существовало несоответствие между темой и стилем, стиль казался бы не прекрасным, а несообразным или ошибочно выбранным, подобное несоответствие в какой-то степени присутствует во всех пространных древнеанглийских поэмах, за исключением одной — «Беовульф». Парадоксальный контраст, который выстраивали между содержанием и манерой изложения, таким образом, является просто литературным вымыслом.
Почему же великим литературоведам это представлялось иначе? Я попытаюсь вкратце рассмотреть ответы на этот вопрос. Причины, как мне кажется, разные, и выяснять их слишком долго. На мой взгляд, одна из причин состоит в том, что методология литературоведения сослужила здесь недобрую службу. Так, обыкновение определять весомость фабулы «Беовульфа» лишило поэму всего, что придавало ей силу и индивидуальность, и привело к тому, что сюжет стал признаваться или грубым, или тривиальным, или типичным. Вообще-то, при подобном пристрастном рассмотрении все истории, и великие и малые, подпадают под одно из этих определений. Сравнительное изучение скелетов — задача, отнюдь не свойственная литературоведению. И когда речь идет о сюжетных схемах, следует обращаться к сравнительной фольклористике, подходящей к повествованию с точки зрения истории или сравнительного анализа (9). С другой стороны, как мне кажется, аллюзии вызывали у любопытных (в основном антикваров, а не литературоведов) желание расшифровать их, а это требовало настолько титанических усилий, что поэма в целом и роль, которую аллюзии приобретают в поэтическом хозяйстве «Беовульфа» как таковом, совершенно выпали из поля зрения. А подобные штудии не дают понимания их значения.
Как я полагаю, это в значительной степени вопрос вкуса: представление о том, что героическая или трагическая история подобна холму, возвышающемуся на человеческой равнине, доминирует. Рок кажется менее книжным, чем грех. Это представление принимается всеми как само собой разумеющееся. Но я позволю себе с этим не согласиться, пусть даже с риском выглядеть некорректным или нездравомыслящим. Не буду сейчас углубляться в дебаты или пытаться стать на сторону мифологического воображения и разобраться в путанице между мифом и сказкой, в которой увязло обозначенное выше суждение. Миф проявляется в иных формах, чем (ныне отвергнутые) мифологические аллегории природы: солнца, времен года, моря и тому подобного. Термин «народная сказка» весьма обманчив, уничижительный оттенок уже вызывает вопрос. Сама по себе народная сказка (или типы народной сказки, представляющие собой просто ученую абстракцию, которая не существует в действительности) очень часто содержит элементы простые и приземленные, обладающие весьма скромным потенциалом, однако в ней содержится немало куда более значительного, что не может быть абсолютно отделено от мифа, ибо произошло от него или превратилось в него, оказавшись в руках поэта, таким образом став невероятно значимым, — но все это в целом принимается без всякого анализа. Значение мифа не так легко пришпилить к бумаге с помощью аналитических рассуждений. В самом полном смысле оно выражается поэтом, который скорее чувствует, чем ясно высказывает, что знаменует собой тема, который представляет ее во плоти миру истории и географии, именно так, как поступил наш поэт. Встающий на защиту поэмы оказывается в сложной ситуации: если только он не проявит осторожность и не будет говорить иносказательно, то убьет изучаемый предмет, который он подвергает расчленению. А иначе перед ним предстанет остов механической аллегории, которая к тому же, вероятно, окажется неработающей. Миф оживает внезапно и как единое целое и умирает прежде, чем его удается расчленить. Мне кажется, кто-то может быть взволнован мощью мифа и не осознавать этого, приписывая это ощущение чему-то иному, например искусству стихосложения, стилю, мастерству владения словом. Благопристойный и трезвый вкус может отказаться допустить, что драконы и огры представляют интерес для нас, а гордое мы включает всех ныне живущих образованных людей; однако мы только тогда сможем постичь загадку поэмы, если признаем тот странный факт, что удовольствие от прочтения состоит как раз в присутствии этих «неуместных» существ. И хотя некоторые (например, Р. Гирван) и называют автора поэмы гением, они все равно считают, что чудовища в ней являются не чем иным, как досадным недоразумением.
Вовсе не очевидно, что вкус древних коррелирует с современным (а так думают многие). На моей стороне автор «Беовульфа» — человек более выдающийся, чем большинство из нас. Что касается меня, то мне не удалось выделить период в истории Севера, когда ценили что-то одно: места хватало и для мифов, и для легенд, и для их смешения. Что же до дракона, то из всего, что нам известно о древних поэтах, можно заключить: предводитель героев Севера, тот, чью память чтили столь высоко, был драконоборцем. И самым известным его деянием, благодаря которому он стяжал на Севере прозвание Фафнисбани, было убийство повелителя легендарных змеев. Хотя существуют значительные различия между поздней северной и древнеанглийской (упоминаемой в «Беовульфе») версиями этой истории, уже там появляются две ключевые детали: дракон и убийство его как подвиг величайшего из героев: «Он был многославен среди тех, кто ищет подвигов» (898). Дракон — вовсе не плод праздной фантазии. Каким бы ни было его происхождение, правдой или вымыслом, дракон в легендах — это могущественное создание человеческого воображения, более значимое, нежели хранимое в холмах золото. Даже сегодня (вопреки мнению литературоведов) можно встретить людей, которым ведомы трагические легенды и предания, которые слышали о героях и даже видели их и которые до сих пор очарованы змеем. В последние годы, по крайней мере, несколько поэм (оттого, что «Беовульф» перекочевал от тех, кто занимается корнями, к тем, кто занимается поэзией) были вдохновлены драконом Беовульфа, но что-то мне неизвестно ни одной, посвященной Ингольду, сыну Фроды. Вообще-то, мне кажется, что Р. У. Чамберс привел пример не слишком удачный. Он обнажил оружие по крайне сомнительному поводу. В той степени, насколько нам сегодня удается уловить суть этой истории, Ингольд — трижды неверный и с легкостью переходящий с одной стороны на другую — представляет интерес только как герой эпизода, включенного в более обширную тему, как часть уже ставшей легендарной традиции, столь драматизированной в лице конкретных персонажей, традиции, которая связана с волнующими событиями истории, пробуждением Дании и войной на островах Севера. Сами по себе эти события не слишком многообещающи. Но естественно, как и в случае со всеми остальными преданиями подобного рода, их мощь зависит от того, как с ними обращаются. Поэт мог сделать из них нечто действительно выдающееся. Тогда бы легенда об Ингольде оказалась широко известной в Англии, и в пользу этого есть определенные свидетельства (10). Сами по себе трагические и героические предания не обладают каким-либо магическим свойством, все дело — в индивидуальном подходе. Один и тот же героический сюжет встречается в плохих и замечательных поэмах, в плохих и замечательных сагах. Развитие узловых моментов сюжета, если изучать их абстрактно, происходит по столь же простым и общим законам, как и в народных сказках. По правде говоря, у нас в наличии немало героев, а вот драконов наперечет.
Если кто и стремится критиковать дракона Беовульфа, то это стоит делать не за то, что он дракон по сути своей, а за то, что дракон в недостаточной степени и не может тягаться со сказочным драконом. В поэме присутствуют очень живые описания: «Проснулся змей, напасть, учуяв новую, скользнул по камню» (2287b-2288b), где дракон предстает настоящим змеем, самостоятельно мыслящим зверем. В целом же концепция скорее стремится обрисовать нам draconitas, а не draco — воплощение злобы, жадности, разрушения (темная сторона героической жизни), безжалостности судьбы, которая не знает различия между добром и злом, порочной стороны жизни в целом. Но для «Беовульфа» это именно так, как должно быть. В поэме баланс выстроен очень точно и при этом абсолютно соблюден. Символизм лежит практически на поверхности, но не пробивается наружу и не превращается в аллегорию. Перед нами нечто более значительное, чем обычный герой, — человек сталкивается с противником куда более губительным, чем любой из врагов его рода и королевства. И вот оно, это существо, появляется во плоти, разгуливает по героической истории, попирает вышеупомянутые земли Севера. А нам говорят, что именно в нем и заключается главный недостаток «Беовульфа», что автор, рассказывая о временах столь богатых преданиями о героях, переиначил их по-новому и на свой лад, представив нам не просто еще одну легенду, но нечто похожее и в то же время отличающееся, ибо она заключает в себе интерпретацию и итог сразу всех преданий.
Принимая Гренделя и дракона, мы вовсе не отрицаем значения героев. Во всех отношениях мы почитаем этих людей прошлого, оказавшихся в плену обстоятельств или в оковах своего нрава, разрывающихся между одинаково священными обязанностями, умирающими спиной к стене. Но, по моим представлениям, «Беовульф» гораздо больше (чем это обычно признается) помогает нам осознать истинную ценность героев. Героические песни
Конечно, я не утверждаю, что поэт, будучи спрошенным обо всем этом, смог бы дать ответ в адекватных англосаксонских терминах. Если бы суть казалась ему предельно ясной, поэма бы наверняка от этого только пострадала. Тем не менее у нас есть возможность наблюдать, как по сцене, увешанной коврами преданий об упадке и гибели, шествуют h![]() le
le![]() (герои). Читая его поэму именно как поэму, а не как собрание эпизодов, мы обнаруживаем, что тот, кто написал h
(герои). Читая его поэму именно как поэму, а не как собрание эпизодов, мы обнаруживаем, что тот, кто написал h![]() le
le![]() under heofemon (словарь дает значение «герои под небесами» или «могучие мужи, ходящие по земле»), возможно, подразумевал — и так же думали его слушатели —
under heofemon (словарь дает значение «герои под небесами» или «могучие мужи, ходящие по земле»), возможно, подразумевал — и так же думали его слушатели — ![]() ormengrund — великую землю, окруженную garsecg — безбрежным морем под недосягаемой крышей неба; и там, словно стоя в круге света, озаряющего их жилища, храбрые мужи вступают в битву с враждебным миром и исчадием тьмы, и эта битва кончается для всех, даже для королей и героев, полным поражением и гибелью. Подобная география, которая некогда была вполне реальной, а теперь превратилась в сказку, никак не влияет на значимость поэмы. Она стремится к астрономии, хотя астрономия не в силах сделать остров более безопасным, а окружающие моря менее пугающими.
ormengrund — великую землю, окруженную garsecg — безбрежным морем под недосягаемой крышей неба; и там, словно стоя в круге света, озаряющего их жилища, храбрые мужи вступают в битву с враждебным миром и исчадием тьмы, и эта битва кончается для всех, даже для королей и героев, полным поражением и гибелью. Подобная география, которая некогда была вполне реальной, а теперь превратилась в сказку, никак не влияет на значимость поэмы. Она стремится к астрономии, хотя астрономия не в силах сделать остров более безопасным, а окружающие моря менее пугающими.
Поэтому Беовульфа нельзя в полной мере считать персонажем героической песни. Он не опутан узами преданности или несчастной любви. Он человек, и для него и многих других это само по себе трагедия. Сочетание возвышенного тона и приземленного содержания вовсе не является досадным совпадением. Дело в том, что именно серьезность темы порождает возвышенность тона: «Срок жизни определен, и пока живет на этом свете, хвалу заслужит, под сводом небес вековечную славу» («Видсид», 14lb—143b). Столь гибельной и неотвратимой является заключенная в поэме идея, что те, кто оказывается в кругу света, внутри осажденных палат, погрязают в работе и разговорах и не обращают внимания на сражения, не видят их ценности или вовсе их презирают. Смерть приходит на пир, а говорят, что поэт невнятен, что у него нет чувства соразмерности.
Поэтому я хочу сказать, что чудовища вовсе не являются необъяснимыми изъянами вкуса: они необходимы, они фундаментально связаны с основными идеями, заложенными в поэме, теми, что придают ей возвышенный тон и глубокую серьезность. Воображение достигает точки кипения там, где появляются ссылки на Каина — используемые часто в роли палки, погоняющей осла, и воспринимаемые как очевидное свидетельство (а есть ли в этом необходимость) путаницы, царившей в головах англосаксов. Выходит, по мнению некоторых, они не могли провести различия между скандинавскими буги и Священным Писанием. А Новый Завет был вообще за пределами их понимания. Я уже признавался, что вовсе не являюсь человеком, который обладает достаточной усидчивостью, чтобы прочесть все книги о «Беовульфе». Но, насколько мне известно, самый плодотворный подход к данному вопросу содержится в эссе ««Беовульф» и героическая эпоха» (13), позволю себе небольшую цитату:
«Во времена «Беовульфа» героический век, куда более дикий и варварский, чем эпоха героев в Греции, вступил в соприкосновение с христианским миром Нагорной проповедью, католической теологией, представлениями об Аде и Рае. Разницу легче всего увидеть, если сопоставить варварский, сказочный элемент в «Беовульфе» и образцы варварства у Гомера. Например, предание об Одиссее и Циклопе, историю Никто. Одиссей сражается с чудовищным и свирепым врагом, но вовсе не с силами тьмы. Пожирая своих гостей, Полифем совершает поступок ненавистный для Зевса и остальных богов, хотя сами циклопы являются порождением небожителей и находятся под их защитой. Одиссей, искалечив Полифема, совершает дурной поступок, который Посейдон долгое время не желает прощать. Что же до гигантских врагов, с которыми сражается Беовульф, то они объявляются врагами Божьими. Грендель и дракон соотносятся с силами тьмы, которыми были окружены христиане. Это «обитатели Ада», «недруги Божьи», «отпрыски Каина», «враги человечества» (14), следовательно, суть главного сюжета «Беовульфа», чудовищного самого по себе, не так далеко отстоит от средневекового человека, как она далека от нас. Грендель едва ли отличается от злодеев (15), которые постоянно сидят в засаде, подстерегая праведного человека, поэтому Беовульф, хотя и живет в атмосфере варварского героического века германцев, является на самом деле христианским рыцарем» (16).
На мой взгляд, в этом отрывке высказан ряд положений, которые требуют дальнейшего развития. Важнее всего определить, как и почему чудовища стали недругами Божьими и начали символизировать силы зла (а в конце концов и были полностью отождествлены с ними), хотя по-прежнему оставались, а именно так дело обстоит в «Беовульфе», смертными обитателями материального мира, жили в нем и являлись его частью. Без дополнительной аргументации я готов согласиться, что «Беовульфа» следует датировать «веком Беды», что составляет одно из наиболее основательных заключений кафедры исследователей, которое оказывается особенно полезным для литературоведов, если говорить о времени, когда поэма сложилась в том виде, в каком мы имеем ее сегодня. «Беовульф» — это, разумеется, важнейший исторический документ для изучения мышления людей того периода времени. И с этой точки зрения он слишком редко использовался историками-профессионалами (17). Но не история как таковая, а образ мысли и настроение автора, конкретный слепок его воображаемой картины мира заботят меня прежде всего. Это смутное время интересует меня именно в той степени, в которой оно помогает понять поэму. И в поэме, на мой взгляд, нет никакой сумятицы, неуверенности и неразберихи. Слияние, которое происходит на грани соприкосновения старого и нового, является плодом размышления и глубокого чувства.
Одна из самых мощных составляющих этого слияния — образ северного мужества: представление о мужестве — одно из самых значительных достижений ранней литературы Севера. Это вовсе не суждение воина. Я не утверждаю, что если бы троянцы призвали на помощь северного короля и его соратников, им удалось бы загнать Ахилла и Агамемнона в море, причем более решительно, чем греческому гекзаметру, разгромить аллитерационную строку, хотя подобный ход событий не представляется абсолютно невероятным. Я говорю, скорее, о ключевой роли, которую вера в нерушимую волю играет на Севере. С определенной долей допущения мы можем обратиться к традиционному миру языческих представлений, сохранившихся в Исландии. Что касается английской дохристианской мифологии, то о ней нам ничего неизвестно. Но подобие героического темперамента в древней Англии и Скандинавии не могло основываться (а вернее, не могло развиться) на мифологиях, вовсе непохожих. Как пишет У. П. Кер:
«Северные боги сражались с такой причудливой воинственностью, что они скорее походили на титанов, чем на олимпийских богов. Просто они находились на правильной стороне, хотя это и не была сторона побеждающая. Победу одерживали хаос и безумие, а в мифологическом смысле — чудовища. Но боги, которые терпели поражение, считали, что это поражение вовсе не является опровержением [существующего порядка вещей]» (18).
В своей войне они избрали союзниками людей, способных, обладая героизмом, разделить с ними стремление к «абсолютному противостоянию, абсолютному, поскольку оно было безнадежным». По крайней мере, видение окончательного поражения человечества (а также божественного вклада в это дело) и основополагающего противостояния богов и людей, с одной стороны, и чудовищ — с другой, вполне, с нашей точки зрения, совпадало в английских и северных представлениях.
Но в Англии эти представления вступили во взаимодействие с христианством и Священным Писанием. Процесс «обращения» был долгим, однако некоторые из его результатов сказались тут же: сразу заработала алхимия перемен, породившая в конце концов алхимию Средневековья. Не было никакой нужды ждать, покуда традиции мира древних окажутся вытеснены или забыты, потому что умы, в которых они хранились, уже изменились и воспоминания стали рассматриваться с новой точки зрения: внезапно они оказались более древними и отдаленными, а их смысл — более темным. В распоряжении поэта, собиравшегося написать поэму, — а в случае с «Беовульфом» мы, скорее всего, должны употреблять именно это слово — оказалось предание, своими масштабами и фабулой существенно разнившееся с героической песней. Его изменившееся восприятие определялось как новой верой и новыми знаниями (или образованием), так и той национальной традицией, которая сама по себе заслуживала изучения (19). Влияния последней на «Беовульфа» никак нельзя отрицать, даже несмотря на то что это не дает покоя критикам. Автор опирается на традицию по своему желанию и в соответствии со своими целями, подобно тому как поэт более позднего времени заимствует у истории или у классиков, рассчитывая, что его аллюзии будут восприняты (в среде определенной категории слушателей). Как и Вергилий, он был достаточно образован по части родной литературы, чтобы видеть историческую перспективу и развить в себе любопытство по отношению к древности. Он истратил свое время на далекое прошлое потому, что это далекое прошлое было поэтически привлекательным. О прошлом ему было известно довольно много — и хотя его знания, например, о таких вещах, как погребение в море или погребальные костры, были обильными и поэтизированными, но не абсолютно точными (если судить по меркам современной археологии), одну вещь он знал наверняка: дни прошлого были языческими, благородными и лишенными всякой надежды.
Но если все отчетливо христианские мотивы оказывались приглушенными (20), то и об образах языческих богов можно сказать то же самое. В какой-то степени потому, что на самом деле они не существовали и всегда являлись, с христианской точки зрения, лишь заблуждением или ложью, порожденной злыми духами (gastbona), к которым лишенные надежды обращались в тяжелые времена. В какой-то степени потому, что древние имена богов (определенно не преданные забвению) обладали силой и были по-прежнему связаны не только с мифологической или сказочной традицией, как это представляется нам при рассмотрении «Видения Гюльви» («Gylfaginning»), но с живым миром язычества, верой и поклонением идолам (wigweorpung). Однако прежде всего потому, что они не были столь уж необходимы для данной поэмы.
А вот чудовища являлись недругами богов — и с течением времени именно чудовища должны были одержать победу. В героическом сражении, закончившемся окончательным поражением, боги и герои стояли плечом к плечу. Образы героев, людей древности, мужей под небесами (h![]() le
le![]() under heofenum), оставались незыблемыми: они бились до тех пор, пока не гибли. Чудовища не отступали вне зависимости от того, уходили или приходили боги. А христианин был (и остается) подобно своим праотцам смертным существом в этом враждебном мире. Чудовища были недругами человечества, пехоты древней войны, и в конце концов они стали врагами Единого Бога (Есе Dryhten), Предводителя всего нового. Однако сам образ войны резко изменился. Он стал расплывчатым, хотя битва на полях времени и приобрела более общее значение. Трагедия великого поражения какой-то период еще оставалась актуальной, но постепенно она потеряла свое решающее значение. Нет никакого поражения. Ибо Конец Света является составной частью замысла Судьи, который стоит над смертным миром. Вдалеке наметился образ вечной, победы или вечного поражения, истинная битва между душой и ее недругами. Вот так древние чудовища стали прообразами злого духа или злых духов, а еще точнее, злых духов, проникших в чудовищ и принявших зримый облик в отвратительных телах великанов (pyrsas) и эфиопов (sigelhearwan) языческого воображения.
under heofenum), оставались незыблемыми: они бились до тех пор, пока не гибли. Чудовища не отступали вне зависимости от того, уходили или приходили боги. А христианин был (и остается) подобно своим праотцам смертным существом в этом враждебном мире. Чудовища были недругами человечества, пехоты древней войны, и в конце концов они стали врагами Единого Бога (Есе Dryhten), Предводителя всего нового. Однако сам образ войны резко изменился. Он стал расплывчатым, хотя битва на полях времени и приобрела более общее значение. Трагедия великого поражения какой-то период еще оставалась актуальной, но постепенно она потеряла свое решающее значение. Нет никакого поражения. Ибо Конец Света является составной частью замысла Судьи, который стоит над смертным миром. Вдалеке наметился образ вечной, победы или вечного поражения, истинная битва между душой и ее недругами. Вот так древние чудовища стали прообразами злого духа или злых духов, а еще точнее, злых духов, проникших в чудовищ и принявших зримый облик в отвратительных телах великанов (pyrsas) и эфиопов (sigelhearwan) языческого воображения.
Но в «Беовульфе» этот переход не произошел окончательно — безотносительно к тому, произошел ли он в тот период времени, к которому относится это произведение. По-прежнему автора в первую очередь интересует «человек на земле», древняя тема, которую он рассматривает под новым углом зрения: этому человеку, каждому человеку и всем людям и всем их трудам суждено умереть. Ни один христианин не стал бы относиться к этому с презрением. Но во времена, близкие к язычеству, этой теме придавалось особое значение. Тень того отчаяния в настроении или чувстве глубокого сожаления все еще присутствовала. Отвага, потерпевшая поражение, обладала огромной ценностью, которая серьезно осознавалась в этом мире. Когда поэт смотрит назад, в прошлое, обозревая историю королей и воинов древних преданий, он видит, что вся слава (а мы можем сказать культура, или цивилизация) исчезает с наступлением ночи. Это трагическое ожидание не разрешается — рассматриваемый материал не дает нам ответа. Фактически мы получаем поэму в многообещающем состоянии неустойчивого равновесия, когда человек, обладающий познаниями о преданиях прошлого, заглядывая в бездну через плечо, пытается охватить их все, постичь объединяющую их трагедию неизбежного поражения, и все же он ощущает оную в большей степени поэтически, потому что сам дистанцирован от довлеющего отчаяния, которое с ней приходит. Он мог смотреть извне, но все же ощущать непосредственно и изнутри: разочарование от происходящего сочеталось для него с верой в значимость обреченного на поражение сопротивления. Он по-прежнему имел дело с великой, пусть и преходящей, трагедией и в то же время не слагал стихами аллегорическую проповедь. Грендель обитает в зримом мире, он питается человеческой плотью и кровью, он проникает в дом через дверь. Дракон обладает материальным огнем и жаждет золота, а не душ. Его убивают, проткнув ему чрево железом. Бирм Беовульфа изготовлен Вилундом, а железный щит, с которым он отправляется против змея, — его собственными кузнецами. Это не нагрудник праведника, не щит веры, отражающий свирепые стрелы грешника.
Мы можем говорить о том, что поэма (с одной стороны) была вдохновлена спором, шедшим уже долгое время и продолжившимся в дальнейшем, и что она была весомым аргументом в дискуссии на тему: следует или не следует нам обрекать предков-язычников на вечные муки. Какую пользу принесет потомкам рассказ о поединках Гектора? Кто Инголъд перед Христом?1 Автор «Беовульфа» продемонстрировал, что в сохранении сокровищ памяти о людских подвигах во времена темного прошлого, когда человек пал, но еще не обрел спасения, оказался в немилости, но не был отвергнут, заключено непреходящее благочестие (pietas). По всей видимости, это было одной из черт английского характера, сохраняющего дух традиции, вне всякого сомнения, обусловленного кодом чести, королевскими династиями и благородными родами и подкрепленного, возможно, пытливой и не слишком педантичной кельтской ученостью, которая, по крайней мере, в каких-то уголках и вопреки авторитетным французским суждениям должна была сохранить немало от северного прошлого, чтобы смешать его с южной ученостью и новой верой.
Считалось, что в «Беовульфе» ощутимо влияние латинского эпоса, в особенности «Энеиды». По крайней мере, хотя бы из чувства соперничества необходимо было описать, каким образом пространная и ученая поэма была сложена в древней Англии. Само собой, существует целый ряд параллелей между этими произведениями, «Энеидой» и «Беовульфом», в особенности если их читать вкупе. Но малозначительные детали, в которых можно уловить аллюзии или подражания, не позволяют сделать никаких окончательных выводов, в то время как истинное подобие лежит гораздо глубже и заключается в качествах, присущих обоим авторам вне зависимости от того, читал англосакс Вергилия или нет. Это самое глубинное подобие заставляет обе вещи звучать похожим образом, определяется ли оно общечеловеческим в поэзии или случайным совпадением двух историй. Перед нами образ великого язычника, стоящего на пороге происходящих в мире перемен, и великого (едва ли в меньшей степени) христианина, который только что переступил через порог великих перемен, выпавших на его время, и, обращаясь назад, «шаг задержал, погруженный в глубокую думу, / Жребий несчастных ему наполнил жалостью душу» («...multa putans sortemque animo miseratus iniquam». «Энеида», VI, 332) (21).
Теперь еще раз обратимся к чудовищам и рассмотрим разницу между ними в северной и южной мифологиях. О Гренделе сказано: «Носитель Божьего гнева»1. Но циклопы порождены богами, и искалечить одного из них значит совершить преступление против их отца, бога Посейдона. Разительное отличие в мифологическом статусе подчеркивается совпадением восприятия авторами этих персонажей (во всем, кроме размеров), которое мы можем наблюдать, если сравнить «Беовульф» (стр. 740 и далее2) с описанием того, как циклоп пожирает людей в «Одиссее» (Песнь IX) и в «Энеиде» (III, 622—6273). У Вергилия, что бы там ни говорили о полусказочном мире «Одиссеи», циклопы являются частью исторически существующей реальности. Эней увидел на Сицилии «monstrum horrendum, informe, ingens» («...зренья лишенный циклоп, безобразный, чудовищно страшный». «Энеида», III, 658), столь же опасного и реального, как Грендель в Дании. «Когда ничтожная тварь в облике человеческим шла по тропе изгоев — была она разве что больше любого иного мужа»4, столь же реального, как Акест или Хротгар (22).
| 1 | 711b Godes yrre b |
| 2 |
Чудовище попусту не тратило времени!
тут же воина, из сонных выхватив, разъяло ярое, хрустя костями, плоть и остов, кровь живую впивало, глотая теплое мясо; мертвое тело с руками, с ногами враз было съедено. |
| 3 |
Кровью и плотью людей Циклоп насыщается злобный.
Видел я сам, как двоих из наших спутников сразу Взял он огромной рукой, на спине развалившись в пещере; Брызнувшей кровью порог окропив, тела их о скалы Он раздробил и жевал истекавшие черною жижей Члены, и теплая плоть под зубами его трепетала. |
| 4 | 1351b-1353b
o
on weres w n |
И здесь нам в особенности приходится сожалеть о том, что мы не обладаем сведениями о дохристианской английской мифологии. Как я говорил, вполне допустимо предположение о том, что позиция, которую чудовища занимают по отношению к людям и богам, аналогична более поздним исландским представлениям. И хотя подобные обобщения несовершенны в деталях (поскольку мы имеем дело с вещами неодинакового происхождения, постоянно перерабатывавшимися и подвергавшимися лишь весьма частичной систематизации), мы все же можем с некоторой долей истинности противопоставить бесчеловечности греческих богов, в чем-то антропоморфных, человечность северных, похожих на титанов. В южных мифах слышатся явные отголоски битвы с титанами, раскаты грома, которыми вовсе не олимпийцы, а «племя титанов... низвергнутое молнией» («...Titania pubes fulmine deicti». «Энеида», VI, 580—581), подобно сатане и его приспешникам оглашает преисподнюю. Но эта битва воспринимается совсем по-иному. Она остается в мире хаотического прошлого. Правящие боги не находятся в осаде, не подвергаются постоянной угрозе и не ожидают грядущей погибели (23). Их потомки на земле — это герой или прекрасная женщина, а иногда и иные твари, враждебные по отношению к человеку. Боги не являются союзниками людей в борьбе против этих или каких-либо других чудовищ. Тот или иной человек интересует бегов как участник их конкретных деяний, а не как составная часть великого плана, который включает всех добрых людей, пехоту, коей суждено принять участие в решающем сражении. В любом случае на Севере боги находятся внутри времени и вместе со своими союзниками они обречены на гибель. Они сражаются с чудовищами и окружающей тьмой, они собирают героев, чтобы организовать последний круг обороны. Эвгемеризм спас их от забвения. Однако еще до этого они потеряли свое величие в глазах почитателей прошлого и превратились в могущественных предков северных королей (англичан и скандинавов), стали огромными тенями великих людей и воинов древности, распластанными по стенам, опоясывавшим этот мир. Убитый Бальдр попадает в Хель и уже не может выбраться оттуда иначе как в образе смертного человека.
Южные боги куда божественнее, они более возвышенные, грозные и непостижимые, они находятся вне времени и не боятся смерти. Подобная мифология может заключать в себе глубокую идею. В любом случае мифология Юга не должна стоять на месте. Она или развивается по направлению к философии, или снова впадает в анархию. Собственно говоря, она искусно избегает проблемы, не помещая чудовищ в центре — там, где они, к досаде критиков, оказались в «Беовульфе». Но подобные ужасы не могут оставаться без всякого объяснения, притаившись на периферии. Сильная сторона северной мифологии как раз в том, что она готова к рассмотрению этой проблемы, она ставит чудовищ во главу угла, дарует им победу, но не почет. И находит сколь убедительное, столь и ужасное решение, заключающееся в противопоставлении им беззащитной воли и мужества. «Неуязвима, как любая работающая теория», она столь убедительна, что древнее южное воображение блекнет, превращаясь в художественное украшение, в то время как северное обладает силой и способностью ожить даже в наше время. Оно функционирует и при полном отсутствии богов, причем в той же степени, в которой работало по отношению к «безбожным» (go![]() lauss) викингам: жертвенный героизм обречен. Мы должны помнить, что поэт, создавший «Беовульфа», определенно понимал: награда за героизм — это смерть.
lauss) викингам: жертвенный героизм обречен. Мы должны помнить, что поэт, создавший «Беовульфа», определенно понимал: награда за героизм — это смерть.
Мне кажется, что по этой причине те строки «Беовульфа», где говорится о великанах и их войне с Богом, заодно с двумя упоминаниями о Каине (как предке великанов вообще и Гренделя в частности), имеют огромную важность. Они напрямую связаны с Писанием, хотя их и нельзя в полной мере отделить от северного мифа о недругах богов (и людей), которые всегда пребывают на страже. Вне всяких сомнений, библейский Каин связан с eotenas и ylfe1, которые являются j![]() tnar и
tnar и ![]() lfar Севера. Это не столько путаница, сколько свидетельство того, что воображению удалось достичь баланса между старым и новым. Именно в этом случае новое Писание и древняя традиция соприкасаются и раскаляются при соприкосновении, поэтому библейские элементы появляются в поэме, которая рассказывает о далеких временах благородного язычества, хотя и не имеют непосредственного отношения к этой теме. Человек — пришелец во враждебном мире, он вступает в схватку, в которой не может одержать верх до тех пор, пока мир существует, но утверждение о том, что его враги являются также врагами Dryhten (Господа), что его мужество само по себе является также проявлением преданности, — это слова thyle2 и церковнослужителя.
lfar Севера. Это не столько путаница, сколько свидетельство того, что воображению удалось достичь баланса между старым и новым. Именно в этом случае новое Писание и древняя традиция соприкасаются и раскаляются при соприкосновении, поэтому библейские элементы появляются в поэме, которая рассказывает о далеких временах благородного язычества, хотя и не имеют непосредственного отношения к этой теме. Человек — пришелец во враждебном мире, он вступает в схватку, в которой не может одержать верх до тех пор, пока мир существует, но утверждение о том, что его враги являются также врагами Dryhten (Господа), что его мужество само по себе является также проявлением преданности, — это слова thyle2 и церковнослужителя.
2 Филлида.
«Беовульф» предстает перед нами как историческая поэма о языческом прошлом (или как попытка создать подобную) — буквальная историческая достоверность, основанная на современных исследованиях, не была, само собой, в данном случае целью. Это поэма ученого мужа, который пишет о былых временах, который оборачивается назад, смотрит на героизм и печаль и находит в них нечто непреходящее и нечто символическое. Его никак нельзя считать наполовину язычником — исторически это маловероятно для подобного человека того времени. Воплощая свой замысел, он опирался в первую очередь на христианскую поэзию, в основном на ту, что восходит к традиции Кэдмона и, в особенности, «Бытия» (24). Он вкладывает в уста сказителя, поющего песнь в Хеороте, рассказ о сотворении земли и небес. Выбор темы настолько возвышен, что звуки арфы приводят в ярость Гренделя, прячущегося во тьме, не важно, является ли это анахронизмом или нет (25). Кроме того, поэт опирался на свои весьма основательные познания народных песен и традиций, только изучение и упражнения могли помочь ему постичь все это, ведь подобные знания никак не относились к числу тех свойств, которые человек, живший в седьмом или восьмом веке, впитывал с молоком матери только потому, что он англосакс, ведь и современные дети не получают уже оформленных представлений о поэзии и истории прямо с рождения.
Поэтому думается, что в своей попытке изобразить дохристианское время, подчеркнув его благородство и стремление добра к истине, поэт самым естественным образом обратился, рассказывая о короле Хеорота, к строкам Ветхого Завета. Folces hyrde1 данов изображен подобно пастухам-патриархам и царям Израиля, слугам Единого Бога, приписывавшим всякое снисходившее на них в этой жизни благо Его милости. Фактически перед нами представление крещеных англичан о благородном вожде, который жил в дохристианские времена и мог (подобно Израилю) впасть в идолопоклонство (26). С другой стороны, бытовавшая в английском языке традиция, не говоря уж о по-прежнему существующих пережитках кодекса чести и героического уклада среди благородных семейств древней Англии, позволила ему нарисовать совершенно иной и куда более близкий к подлинному языческому h![]() le
le![]() (герою) образ Беовульфа, в особенности когда поэт изображает его молодым воином, использующим свой великий дар meagen (силы), чтобы стяжать dom (судьбу) и lof (славу) среди людей и потомков.
(герою) образ Беовульфа, в особенности когда поэт изображает его молодым воином, использующим свой великий дар meagen (силы), чтобы стяжать dom (судьбу) и lof (славу) среди людей и потомков.
«Беовульф» не является подлинным историческим портретом Дании, Гетландии и Швеции начала VI в. Но в целом (пусть даже с определенными мелкими недочетами) эта самодостаточная картина, построенная в соответствии с определенным замыслом и планом, это целое должно было создать в умах современников поэта иллюзию ожившего языческого, но благородного, преисполненного глубокой значимости прошлого, уходящего во тьму веков и годы ненастья. Это ощущение глубины достигается благодаря включению ряда эпизодов и аллюзий на старые предания, в большинстве своем еще более темные, языческие и полные отчаяния, чем действие, происходящее на переднем плане.
Подобную страсть к прошлому и обращение к светской учености благодаря схожему восприятию древности (через меланхолию) можно обнаружить в «Энеиде», особенно это чувствуется, когда Эней достигает Италии: «Сатурнов / род... добровольно хранит обычай древнего бога» («Saturni gentem... sponte sua veteresque del se more tenentem». «Энеида», VII, 203—204); «Знаю я, что народ мой как с недругом, так и с другом, достойно и по примеру предков себя покажет»1. Мы можем только оплакивать сочинения поэтов, анналы и предания, которые были известны Вергилию и сгодились разве что на создание нового произведения. Литературоведы, полагающие, что все важное находится на периферии, не видят того мастерства, благодаря которому обращения к прошлому так зазвучали в «Беовульфе», ведь именно поэт придал древности привлекательность. Его поэма оказала немалое влияние, и она, несомненно, внесла в средневековую мысль куда больший вклад, чем грубое и нетерпимое суждение тех, кто был готов отдать всех героев на откуп дьяволу. Нам остается только благодарить за то, что произведение столь благородного свойства волею случая было спасено для нас от дракона уничтожения.
| 1 | 1863b-1865b
Ic pa leode wat
ge wi
|
Общая структура поэмы, рассматриваемая подобным образом, не так уж сложна для восприятия, если мы обратим внимание на ключевые моменты, на замысел, оставив в стороне малое и незначительное. Конечно, прежде всего мы должны избавиться от мысли, что «Беовульф» — это повествовательная поэма, последовательное изложение событий. Поэма характеризуется «отсутствием поступательного развития сюжета» (это отметил Фредерик Клебер в своем издании) (27). Но поэма и не задумывалась как «поступательная» ни постоянно, ни временами. Главное в ней — это баланс, противопоставление зачинов и концовок, в простейших терминах она является полным контрастов описанием двух вех одной великой жизни, восхода и заката, развитие древнего и не стоящего на месте противопоставления юности и зрелости, первого подвига и смерти, венчающей все. Вот почему она делится на две противоположные части, различные по сути, манере и протяженности. Первая — с 1 по 1999 строку (включая вступление из 52 строк), вторая — с 2200 по 3182 (заключение). Нет причин придираться к такому соотношению, в любом случае оно на практике показало свою пригодность для достижения желаемого эффекта.
Эта простая и статичная структура, целостная и прочная, варьируется в каждой части, и она в состоянии выдержать такое обхождение. С одной стороны, мы видим, как Беовульф достигает славы, с другой — представлены его правление и смерть. Для литературоведов тут есть над чем призадуматься, но точно так же есть предмет для восхищения. Единственная явная слабость — это пространная реприза, рассказ Беовульфа Хигелаку. Избегая противоречий (28), Беовульф кратко излагает события, произошедшие в Хеороте, ретушируя свой рассказ. Эта реприза призвана проиллюстрировать — поскольку он сам рассказывает о своих подвигах — характер молодого человека, избранного судьбой, причем как раз в тот момент, когда он обретает всю полноту силы и власти. Конечно, этого соображения недостаточно, чтобы оправдать повтор. Возможно, объяснение или полное оправдание нужно искать совсем в других плоскостях.
Вне всяких сомнений, старое предание не было впервые рассказано или придумано самим поэтом. Это становится очевидным при сопоставлении поэмы с фольклорными аналогами. Легенды уже связывали Дом Скильдингов с мародерствующим чудовищем и с прибытием героя-освободителя из далеких краев, все это уже не было ново. Сюжет вообще не принадлежал поэту, и, хотя он привнес чувства и значительность в необработанный материал, сюжет этот не был совершенным средством воплощения темы или тем, родившихся в воображении поэта, когда он работал над произведением. В литературе это не редкость. Противопоставление — юность и смерть — было бы куда более подходящим, если бы герою не пришлось перемещаться с места на место. Если бы один народ, гауты, выступал в массовке, сцена не стала бы уже, но, наоборот, символически расширилась. В одном народе и одном герое для нас бы явно воплощались все человечество и его герои. Во всяком случае, это мои личные ощущения. Но мне также представляется, что история Гренделя, повторно рассказанная в землях гаутов, исправляет этот недостаток. Беовульф стоит в палатах Хигелака и рассказывает свою историю, он уверенно вступает на землю своего народа. Он больше не боится показаться простым wrecca (изгнанником), искателем приключений и убийцей буги, которые не представляют для него никакого интереса.
Фактически в поэме присутствует двойное разделение: фундаментальное, о котором мы уже говорили выше, и второстепенное, но также важное, проходящее по рубежу строки 1887. После него основные элементы предыдущей части отступают на второй план. Вся трагедия Беовульфа описана на отрезке от строки 1888 и до конца (29). Естественно, без первой половины мы лишимся множества ярких эпизодов, не побываем на темных задворках Двора Хеорота, который снискал такую же славу в воображении северян, как Двор короля Артура: ни один образ прошлого не мог считаться без него полноценным. И (что самое важное) мы потеряем прямой контраст молодости и зрелости, противопоставление Беовульфа и Хротгара, которое играет важнейшую роль в этой части поэмы, заканчивающейся исполненными глубокого смысла словами: «до тех пор, пока старость не забрала у него силы, как это часто происходит со многими» (стр. 1886b—1887b1).
| 1 |
opp
m |
В любом случае мы не должны рассматривать эту поэму как попытку создать развлекательное повествование или романтическую повесть. Сама природа древнеанглийского стиха зачастую оценивается неверно. В ней нет отдельных ритмических структур, развивающихся от начала к концу и повторяющихся с вариациями в других строках. Ритм строк не совпадает с мелодией стиха. Они основаны на балансе, заложенном в противопоставлении двух ритмически контрастных полустихов, приблизительно равновесных (30) как с точки зрения фонетики, так и по значимости содержания. Они больше напоминают каменную кладку, чем музыку. В этой фундаментальной поэтике, я думаю, заключена параллель со структурой «Беовульфа» в целом. «Беовульф» на самом деле является самой удачной древнеанглийской поэмой, потому что в нем все элементы: язык, тема, структура — приведены почти к полной гармонии. О стихах поэмы судят по ритму и структуре, это сбивает с толку. О теме судят как о сюжете развлекательном, это тоже сбивает с толку. Язык и стихи, конечно, отличаются от камня, дерева или краски: их можно последовательно читать или слушать на протяжении определенного времени. Поэтому всякая поэма, наполненная событиями и персонажами, должна развиваться как повествование. Однако в «Беовульфе» мы видим структуру, которая, не выходя за рамки стихосложения, куда ближе скульптуре или живописи. Это картина, а не мелодия.
То же самое проявляется и во второй части. В эпизоде битвы с Гренделем читатель, абстрагируясь от своего литературного опыта, может не быть столь уверенным, что герою не суждено погибнуть, и попытаться разделить надежды и страхи гаутов, ожидающих на берегу. Как бы то ни было, во второй части автор не собирается оставлять тему открытой, даже согласуясь с литературной традицией. Нет никакой необходимости торопиться подобно гонцу, который мчался, чтобы принести прискорбные вести (стр. 2892 и далее1). Ожидавшие новостей люди могли надеяться, а мы — нет. К этому времени мы должны уже осознать план, несчастье предопределено. Поражение становится главной темой. Триумф над врагами непрочного оплота человечества уходит в прошлое, и мы медленно и неохотно приближаемся к неизбежной победе смерти (31).
О «Беовульфе» говорят, что «по своей структуре поэма удивительно слаба, а по смыслу абсурдна». К этому добавляют, что отдельные детали все же имеют большую ценность. В действительности же поэма сильна своей структурой. Заключенный в ней смысл абсолютно ясен, хотя в деталях можно отыскать определенные изъяны. На мой взгляд, провозглашенная поэтом основная идея не только вполне оправдана, но и достойна восхищения. Возможно, изначально существовали отдельные стихи, связанные с подвигами Беовульфа, с падением Хигелака, с перипетиями вражды между Домами Хретеля Великого и Онгентеова, с трагедией
«Беовульф» — это не эпос, даже не пространная песнь. Ни один термин, позаимствованный из греческой или иной литературы, не подходит. И я не вижу оснований, почему должен был бы подойти. Если нам непременно нужен термин, давайте использовать слово «элегия». Таким образом, перед нами героическая элегическая поэма, первые 3136 строк которой суть не что иное, как прелюдия к погребальной песне: «Ему приготовил народ гаутов костер погребальный, благородно вознеся его над землею»1 — одной из наиболее волнующих, что когда-либо были написаны. Вселенская значимость, которой наделена судьба героя, возвышает, а не ограничивает. На самом деле, просто необходимо, чтобы последний противник не оказался каким-нибудь шведским правителем или вероломным другом. Дракон, созданный воображением, тут подходит как нельзя лучше. Он появляется очень кстати. Если герой погибает в борьбе с драконом, значит, он уже стяжал себе славу, покорил врага из той же когорты.
| 1 | 3137-3138
Him pa gegiredan Geata leode ad ofer eor |
Литературоведам удалось зайти настолько далеко, что один отметил, будто самое отвратительное — это присутствие чудовищ в обеих частях поэмы. Выходит, одного переварить было бы куда легче. Разумеется, это чепуха. Я могу понять тех, кто желал, чтобы чудовищ не было вообще. Я также могу понять, почему в «Беовульфе» их именно столько. Но предложение сократить число чудовищ мне непонятно вовсе. Было бы действительно нелепо, если бы Беовульф стяжал славу в обычной войне во Фризии, а потом поэт уничтожил бы героя с помощью дракона. Или если бы автор рассказал об избавлении Хеорота, а потом описал поражение и смерть Беовульфа во время дикого и тривиального нашествия шведов. Если дракон — это прекрасная смерть для Беовульфа, а я абсолютно согласен с автором, что так и есть, то Грендель, вне всякого сомнения, очень удачное начало. Они — существа feond mancynnes1, одного порядка и похожего значения. Триумф над меньшим и более приближенным к людям меркнет перед поражением, нанесенным более древним и родственным стихии. Нашествие огров начинается как раз вовремя: не в ранней юности, хотя «чудища морские» упоминаются в рассказе о молодости Беовульфа, и не в самом конце его жизненного пути, когда всем становятся известны его сила и героизм (32), а в тот самый момент, наступающий в жизни великого человека, когда люди с удивлением замечают, что герой внезапно ринулся вперед. Появление дракона после этого неизбежно: человек должен умереть в предначертанный день.
В заключение я хотел бы провести воображаемую аналогию. Давайте предположим, что поэт выбрал тему более созвучную нашему современному пониманию — жизнь и смерть святого Освальда. Тогда бы он написал поэму, которая открывалась бы рассказом о Хевенфилде, где Освальд, юный принц, с остатками своей храброй дружины в безнадежной ситуации одержал блистательную победу. Затем поэту следовало бы перейти к трагическому поражению Освитри, которое, казалось, лишило христианскую Нортумбрию всякой надежды, в то время как остальные события жизни Освальда и предания его королевского двора и его королевства, а именно Дейры, могли быть опущены или упомянуты лишь вскользь. Для кого угодно, кроме историка, который ищет факты и хронологические данные, это произведение вполне бы сошло за героическую элегическую поэму, а вовсе не за исторический документ. Оно было бы куда лучше простой повести в стихах или прозе, развивающейся прямолинейно. Эта простая композиция сразу придаст поэме большую привлекательность, чем описание жизни короля: контраст взлета и падения, подвига и смерти. Но даже это произведение будет уступать «Беовульфу», поэма вышла бы куда лучше, если б автор, пренебрегая исторической достоверностью, значительно преувеличил время правления Освальда, дал ему состариться, наделив его грузом лет и славы, и отправил его, произнося вслед мрачное пророчество сражаться с Пендой-язычником. Контраст юности и старости многое добавил бы к оригинальной теме и придал бы ей универсальное значение. Но и тогда история уступала бы «Беовульфу». Чтобы достигнуть размаха бедного сказочного «Беовульфа», поэту следовало бы превратить Кадваллона и Пенду в демонов и великанов. Всего лишь потому, что враждебные силы в «Беовульфе» имеют нечеловеческую природу, эта история масштабнее и привлекательнее, чем нарисованная нашим воображением поэма о падении короля Освальда. Она отражает космичность и развивается параллельно с размышлениями людей о судьбах человечества; она находится в самой гуще, но оказывается выше междоусобных войн, правителей, выходит за рамки дат и границ исторических периодов, играющих тем не менее огромную роль. С самого начала и на протяжении всей поэмы, а более всего в конце наша точка зрения находится сверху прямо над домом человека, расположенным в долине. Зажигается свет1 — и раздаются звуки музыки, но окружающая тьма и ее исчадия ожидают, затаившись, когда факелы погаснут, а голоса смолкнут. Гренделя сводили с ума звуки арфы.
И последнее, специально для тех, кто сохранил былое почтение к временам прошлого. «Беовульф» не варварская поэма; это позднее произведение, вобравшее материал (к тому времени уже более чем обширный), оставшийся от дней давно минувших, от времен, которых уже никогда не вернуть, ибо их поглотило забвение. Материал этот используется в новых целях с широким размахом воображения, если и без прежней мощи, утратившей налет горечи. Наконец, и сам «Беовульф» был причислен к древности и теперь производит однозначное впечатление. Для нас это поэма древняя; и хотя ее создатель говорил о вещах уже старых и весомых с сожалением, он потратил свое мастерство, создавая актуальное произведение, которое находило отклик. Погребение Беовульфа отзывается в наших сердцах эхом древней погребальной песни, далекой и безнадежной, летящей над холмами, словно затухающий отзвук. В мире, подобном этому, мало поэзии; и хотя «Беовульфа» и не причисляют к самым великим поэмам западной цивилизации, у него есть свой индивидуальный характер, своеобразная значимость. Поэма не потеряла силу и сегодня, вне зависимости от того, известны ли нам время и место ее создания, даже если бы она оказалась вне контекста, не содержала никаких имен, которые впоследствии могли быть прочитаны и опознаны исследователями. Фактически поэма «Беовульф» написана языком, который спустя многие столетия сохранил родство с нашим собственным. Она написана на этой земле и живет в этом северном мире, под этим северным небом. И у тех, для кого этот язык и земля родные, она будет находить глубокий и искренний отклик — до той поры, конечно, пока не появится дракон.
ЭПИТЕТЫ ГРЕНДЕЛЯ
Изменения, сформировавшие (до 1066 г.) образ дьявола в Средневековье, нашли лишь частичное отражение в «Беовульфе», однако они неочевидны, когда речь заходит о смешанной природе Гренделя. Такие вещи не допускают четких классификаций и различий. Вне всяких сомнений, древняя дохристианская фантазия не проводила четкой грани различия относительно «материальности» чудовищ, созданных из глины и камня (субстанций, в которые они могут превратиться с первым лучом солнца), и эльфами, призраками, а также бути. Чудовища, более или менее похожие на людей, находились в согласии с христианскими образами греха и злых духов. Карикатура на человеческий облик (earmsceapen on weres w![]() stmun1) является символом греха, причем в самом конкретном виде, или той самой мифологической составляющей, скрытой и цельной, на которую делается акцент. Все это представлено в «Беовульфе», причем усилено за счет грехопадения Каинова, а значит, и Адамова и воспоследовавшего за ним Божьего проклятия. Грендель не только несет на себе печать проклятия, но и грешен по своей природе: mansca
stmun1) является символом греха, причем в самом конкретном виде, или той самой мифологической составляющей, скрытой и цельной, на которую делается акцент. Все это представлено в «Беовульфе», причем усилено за счет грехопадения Каинова, а значит, и Адамова и воспоследовавшего за ним Божьего проклятия. Грендель не только несет на себе печать проклятия, но и грешен по своей природе: mansca![]() a2, synsca
a2, synsca![]() a3, synnum geswenced4; onfyrena hyrde5. Он именуется самим автором (а не действующими лицами): язычником (852,986), адским недугом (101). Как к человеку, лишейному Бога, к нему не только могут быть применимы те же эпитеты, что и к обычным людям, такие, как wer, rinc, guma, maga6, но у него присутствует душа, неподобная его телу, и эта душа будет подвергнута вечной каре: «мятущаяся языческая душа, которая оказалась во власти ада» (852). Беовульф говорит, что «он должен пребывать в ожидании Страшного Суда, и так он изведает, какая участь ему предначертана Судьбой» (977b-979b).
a3, synnum geswenced4; onfyrena hyrde5. Он именуется самим автором (а не действующими лицами): язычником (852,986), адским недугом (101). Как к человеку, лишейному Бога, к нему не только могут быть применимы те же эпитеты, что и к обычным людям, такие, как wer, rinc, guma, maga6, но у него присутствует душа, неподобная его телу, и эта душа будет подвергнута вечной каре: «мятущаяся языческая душа, которая оказалась во власти ада» (852). Беовульф говорит, что «он должен пребывать в ожидании Страшного Суда, и так он изведает, какая участь ему предначертана Судьбой» (977b-979b).
2 713a, 735b, 1339a, досл. «зловредный человек».
3 801b, досл. «вредящий грехом».
4 975a, досл. «мучимый грехами».
5 750b, досл. «свирепый, огненный страж».
6 Синонимы понятий «муж» и «взрослый человек».
Однако на эту точку зрения накладывается другая. Из-за непрестанной ненависти к людям, к их радостям, ![]() g2. Следует отметить, что эпитет feond3 не вносит ясности, это слово означает в тексте врага и, например, применимо к Беовульфу и Виглафу по отношению к дракону.
g2. Следует отметить, что эпитет feond3 не вносит ясности, это слово означает в тексте врага и, например, применимо к Беовульфу и Виглафу по отношению к дракону.
2 756a, досл. «приспешникам дьявола».
3 Досл. «враг».
Даже выражение feond on helle далеко не так просто, как кажется; и хотя можно привести wergan gastes1 (133), — выражение, которым в дальнейшем часто обозначали дьявола, в «Беовульфе» оно относится к дьяволу только в строке 1747. Вне этого словосочетания использование gast или g![]() st ни о чем не говорит. В любом случае эти слова нельзя переводить современными терминами «дух» или «призрак». «Существо», пожалуй, наиболее близкое по смыслу слово, которым мы располагаем. Его можно употребить по отношению к Гренделю как к созданию родственному или подобному буги, обладающему физическим обликом и силой, но принадлежащему к другому роду созданий, похожему на злых духов умерших. Огонь зародился как g
st ни о чем не говорит. В любом случае эти слова нельзя переводить современными терминами «дух» или «призрак». «Существо», пожалуй, наиболее близкое по смыслу слово, которым мы располагаем. Его можно употребить по отношению к Гренделю как к созданию родственному или подобному буги, обладающему физическим обликом и силой, но принадлежащему к другому роду созданий, похожему на злых духов умерших. Огонь зародился как g![]() st2 (1123).
st2 (1123).
2 Досл. «дух». «Так пожрал дух костра, / пламя алчное, / лучших воинов».
Приближение Гренделя к дьяволу вовсе не означает, что отождествляется сфера их существования. Грендель был плотским обитателем этого мира (до момента его физической смерти). On helle и hette означает «адский» и действительно эквивалентно первым элементам сложносоставных deapscua1, sceadugengea2, helruna3. (Хотя в родительном падеже оно дало прилагательное «адский», применимое в средневековом английском к обычным людям, например к ростовщикам, даже feond on helle4 могло употребляться подобным образом.) Виклиф обзывает так монаха, разгуливающего по Англии, так же как Грендель разгуливал по Дании. Но символизм тьмы настолько фундаментален, что бесполезно искать какие-то различия между pystru5, царящей за пределами палат Хродгара, под покровом которой крался Грендель, и тенью смерти или ада после или во время смерти.
2 703a, досл. «тот, кто ходит в темноте».
3 163a, досл. «тайна преисподней».
4 101b, досл. «враг из ада».
5 87b, досл. «мрак, тьма».
Вопреки этой коннотации (замысловатой и настолько же сложной, насколько важной и интересной для изучения), Грендель как персонаж остается прежде всего огром, реально существующим чудовищем, чья главная функция — проявление агрессии порядок и искусство на поверхности земли. Он — fifelcyn1, pyrs2 — или eoten3. Фактически eoten сохранилось в древнеанглийском только применительно к нему. Чаще всего его зовут просто недругом: feond, la![]() , scea
, scea![]() a4, feorhgeni
a4, feorhgeni![]() la5, la
la5, la![]() geteona6 — всё это слова, применимые к врагам любого рода. И хотя он, будучи огром, родствен дьяволу и обречен после смерти быть причисленным к сонму злых духов, сражаясь с Беовульфом, Грендель вовсе не является материализовавшимся видением губящего души зла. Совершенно справедливо, что Гренделя нельзя в полной мере отождествлять со средневековым дьяволом, подобно тому как буги — с его приспешниками, различие между дьяволоподобным огром и дьяволом, принимающим форму огра, — между чудовищем, в котором мечется проклятый дух, поглощающим плоть и несущим смерть физическую, и призраком зла, которому нужна прежде всего душа и который несет вечную смерть (даже если этот призрак принимает какую-то телесную, чудовищную форму и способен причинять и испытывать боль), — очень значительно. И то и другое встречается после 1066 г. В «Беовульфе» преобладает физическая сторона: Грендель, будучи схваченным, не исчезает в преисподней, необходима героическая удаль, чтобы его повергнуть (здесь наблюдается полная асимметрия по отношению к поединку с драконом).
geteona6 — всё это слова, применимые к врагам любого рода. И хотя он, будучи огром, родствен дьяволу и обречен после смерти быть причисленным к сонму злых духов, сражаясь с Беовульфом, Грендель вовсе не является материализовавшимся видением губящего души зла. Совершенно справедливо, что Гренделя нельзя в полной мере отождествлять со средневековым дьяволом, подобно тому как буги — с его приспешниками, различие между дьяволоподобным огром и дьяволом, принимающим форму огра, — между чудовищем, в котором мечется проклятый дух, поглощающим плоть и несущим смерть физическую, и призраком зла, которому нужна прежде всего душа и который несет вечную смерть (даже если этот призрак принимает какую-то телесную, чудовищную форму и способен причинять и испытывать боль), — очень значительно. И то и другое встречается после 1066 г. В «Беовульфе» преобладает физическая сторона: Грендель, будучи схваченным, не исчезает в преисподней, необходима героическая удаль, чтобы его повергнуть (здесь наблюдается полная асимметрия по отношению к поединку с драконом).
2 426a и 761a, 883b, 902b, досл. «гигант, великан».
3 440a, 511a, 550a, 815a, 2354a, досл. «ненавистный, отвратительный, противоположный».
4 559b, 974b, досл. «тот, кто творит зло, враг».
5 969a, 1540a, 2933a «жизнекрушитель», «тварь смертоносная» — этот эпитет используется не только по отношению к Гренделю.
6 479a, досл. «враг жизни», «смертельный враг».
Когда речь заходит о матери Гренделя, она описывается теми же словами: wif1, ides2, agl![]() c wif3, а с нечеловеческой стороны — merewif4, brimwylf5, grundwyrgen6. Прозвище Гренделя Godes andsaca7 уже рассматривалось в тексте. Мы опускаем некоторые эпитеты, например те, которые относятся к его неукротимости и преступности, которые не только характеризуют его природу, но и прекрасно подходят для потомков Каина или дьявола: heorowearh8, d
c wif3, а с нечеловеческой стороны — merewif4, brimwylf5, grundwyrgen6. Прозвище Гренделя Godes andsaca7 уже рассматривалось в тексте. Мы опускаем некоторые эпитеты, например те, которые относятся к его неукротимости и преступности, которые не только характеризуют его природу, но и прекрасно подходят для потомков Каина или дьявола: heorowearh8, d![]() dhata9, mearcstapa10, angengea11.
dhata9, mearcstapa10, angengea11.
2 1259a «женщина».
3 1259a, досл. «дьявольская или чудовищная женщина».
4 1519a, досл. «женщина озера или моря».
5 1494b, досл. «волчица моря».
6 1518b, досл. «ворога проклятая».
7 786b, 1682b, досл. «находящийся в раздоре с Богом».
8 1267a, досл. «дикий, свирепый волк».
9 275a, досл. «пламенный страж».
10 103a, 1348a, досл. «тот, кто ходит по пустынным местам».
11 165a, досл. «ходящий в одиночестве».
LOF и DOM, АД и НЕБЕСА
В английском языке не осталось никаких или почти никаких следов языческих верований, но дух уцелел. Так, автор «Беовульфа» полностью воплотил идею или lof, или dom, благородного языческого стремления к заслуженной похвале со стороны благородных, потому что, если это ограниченное «бессмертие» славы существовало как сильный мотив, наряду с настоящими языческими обычаями и верой, оно могло также надолго пережить их. Это естественный осадок, который остается, когда боги уничтожены, причем неважно, откуда пришло неверие — извне или изнутри. Значение lof в «Беовульфе», на это уже давно указал Эрл, говорит о близости поэту языческой эпохи, о том, что закат язычества в Англии, по крайней мере в аристократической среде, где сохранялись эти традиции, был отмечен сумеречным периодом, очень похожим на то, что позднее произошло в Скандинавии. Боги угасали и отступали, и человек был оставлен на произвол судьбы. Он мог рассчитывать только на собственные силу и волю, и наградой ему была похвала равных при жизни и память о нем после смерти.
В начале поэмы, в финале зачина, берется очень сильная нота: «...lofd![]() dum sceal in m
dum sceal in m![]() gpa gehw
gpa gehw![]() re man gepeon!»1 Последнее слово поэмы, lofgeor-nost2, — высшая степень похвалы погибшему герою, это было действительно lastworda betst3, поскольку Беовульф жил сообразно собственной философии, которую он открыто выразил (стр. 1385a—1389b):
re man gepeon!»1 Последнее слово поэмы, lofgeor-nost2, — высшая степень похвалы погибшему герою, это было действительно lastworda betst3, поскольку Беовульф жил сообразно собственной философии, которую он открыто выразил (стр. 1385a—1389b):
|
Каждого смертного ждет кончина! — Пусть же, кто может, вживе заслужит вечную славу! Ибо для воина Лучшая плата — память достойная!4 |
2 3182b, досл. «ищущие вековечной славы».
3 Досл. «наилучшее заключение».
| 4 |
Ure
worolde lifes; wyrce se pe mote domes unlifgendum |
Поэт в качестве комментатора снова обращается к теме (стр. 1534b-1536b):
|
Так, врукопашную, должно воителю идти, дабы славу стяжать всевечную, не заботясь о жизни!1 |
| 1 |
Swa sceal man don,
ponne he longsumne lof, na ymb his lif сеага |
Lof представляет в абсолютном и этимологическом плане ценность, оценку, а также похвалу, именно так принято считать (само по себе это происходит из pretium («ценность» — лат.). Dom — это суждение, определение ценности, а иногда просто уважение, заслуженная слава, разница между ними не всегда имеет значение. Хотя в финале «Видсида» говорится о той роли, которую играет поэт в обеспечении благородным мужам и их деяниям славной памяти, lof и dom соединяются вместе. О благородном покровителе говорится: Lof se gewurce![]() , hafa
, hafa![]() under heofопит heahf
under heofопит heahf![]() stne dom1. Но разница имеет значение, поскольку эти слова не являются ни синонимами, ни равными по весу. В христианское время первое из них, lof, было связано с образами неба и ангельского пения, второе же, dom, относилось к теме Суда Господнего над всеми и над каждым. Произошедшее изменение наиболее явно выражено в «Морестраннике», особенно если сопоставить строки 66—80 этой поэмы и речь или наставления Хродгара в «Беовульфе», строки 1755 и далее. Существует большое сходство между строками 66—71 «Морестранника» и словами Хродгара, строки 1761—1768. В особенности в той части его речи, которая, безусловно, может быть приписана первоначальному автору «Беовульфа» вне зависимости от исправлений и дополнений, сделанных в дальнейшем.
stne dom1. Но разница имеет значение, поскольку эти слова не являются ни синонимами, ни равными по весу. В христианское время первое из них, lof, было связано с образами неба и ангельского пения, второе же, dom, относилось к теме Суда Господнего над всеми и над каждым. Произошедшее изменение наиболее явно выражено в «Морестраннике», особенно если сопоставить строки 66—80 этой поэмы и речь или наставления Хродгара в «Беовульфе», строки 1755 и далее. Существует большое сходство между строками 66—71 «Морестранника» и словами Хродгара, строки 1761—1768. В особенности в той части его речи, которая, безусловно, может быть приписана первоначальному автору «Беовульфа» вне зависимости от исправлений и дополнений, сделанных в дальнейшем.
Морестранник говорит:
|
Ведь только Господним я дорожу блаженством, а не жизнью мертвой, здесь преходящей, — ведь я надеюсь, что на земле сей благо продлится вечно; из трех единое когда-нибудь да случится, пока человеческий век не кончится: хворь, или старость, или сталь вражья жизнь у обреченного без жалости отнимут1. |
| 1 |
Ic gelyfe no p
Simle ргеога sum pinga gehwylce Adl oppe yldo oppe ecghete |
А вот слова Хродгара:
|
...но ступи на путь блага вечного и гордыню, воитель, укроти в себе, ибо ныне ты знатен мощью, но кто знает, когда меч ли, немочь ли сокрушат тебя, иль объятия пламени, иль пасть пучины, или взлет стрелы, или взмах меча, или время само — только свет помрачится в очах твоих, и тебя, как всех, воин доблестный, смерть — пересилит1. |
| 1 |
Oft sona bi
P О О О Forsite P |
Хротгар развивает тему «где они ныне», либо следуя логосу, заданному поэмой «Участь человека», либо как краткую аллюзию знаменитым строкам «Скитальца»1. Но автор «Морестранника», хотя и провозгласил, что все люди умрут, не останавливается на этом и продолжает (стр. 72—80):
|
Пускай же каждый взыскует посмертной, лучшей славы, хвалы живущих, какую при жизни заслужить он может победной битвой с недругом злобесным, подвигом в споре с преисподним дьяволом, чтобы потомки о том помнили и слава отныне жила бы в ангелах о нем бессмертная, среди несметной дружины блаженных. |
| 1 | Стр. 80b — 84b
Кого-то из битвы гибель
проворная умчала, кого-то ворон унес через пучину высокую, кого-то волчина серый растерзал по смерти, кого-то в землю глубоко зарыли соратники грустноликие. |
Уже синтаксис этого отрывка позволяет утверждать, что в него вносились изменения и дополнения. Упростить его совсем нетрудно. Но в любом случае он показывает развитие идеи lof в двух направлениях: первое заключается в том, чтобы стяжать lof в противостоянии духовным недругам, неопределенный смысл слова feonda в поэме, в том виде, как она сохранилась, приобретает конкретное значение deofle togeanes1; второе — в расширении понятия lof, которое включает ангелов и небесную благодать. Lofsong, loftsong в средневековом английском употреблялось по отношению к хору ангелов.
Ничего подобного нет в «Беовульфе», где lof сохраняет свое языческое значение — хвала, которую воздает герою его окружение, в лучшем случае нескладно подхваченная его потомками awa to ealdre. (О so![]() f
f![]() stra dom, 2820, см. ниже.) В «Беовульфе» есть ад, поэт справедливо говорит о людях, которых он описывает как helle gemundon on modsefan1. Небеса ни разу не определены, как противоположность ада, как место или состояние, где даруется награда, как место вечного блаженства перед лицом Божьим. Разумеется, в единственном и множественном числе «небо» и «небеса» встречаются часто, но обычно они описывают либо конкретный пейзаж, либо небо, под которым обитают люди. Даже когда эти слова используются наряду с атрибутами Бога, Господа Царства Небесного, они выступают в той же роли, что и эпитеты, указывающие на Его власть над всем сущим и над Его Царством, охватывающем и твердь, и моря, и небо.
stra dom, 2820, см. ниже.) В «Беовульфе» есть ад, поэт справедливо говорит о людях, которых он описывает как helle gemundon on modsefan1. Небеса ни разу не определены, как противоположность ада, как место или состояние, где даруется награда, как место вечного блаженства перед лицом Божьим. Разумеется, в единственном и множественном числе «небо» и «небеса» встречаются часто, но обычно они описывают либо конкретный пейзаж, либо небо, под которым обитают люди. Даже когда эти слова используются наряду с атрибутами Бога, Господа Царства Небесного, они выступают в той же роли, что и эпитеты, указывающие на Его власть над всем сущим и над Его Царством, охватывающем и твердь, и моря, и небо.
Из этого, разумеется, не следует, что поэт не имел представления о Небесах теологических или о том, что heofon (древнеангл.) является эквивалентом caelum (лат.) Святого Писания, он преднамеренно не употребляет слово в подобном значении в поэме, повествующей о языческом прошлом. Мы находим лишь одно исключение в строке 1861 и далее, если только этот отрывок действительно относится к первоначальному пласту поэмы, то есть является именно таким, каким его записал сказитель «Беовульфа», и избежал дополнений или изменений, а я считаю, что они никак не могут являться поздней вставкой, отрывок и правда выпадает из общего контекста, поскольку представляет собой восклицание автора, прекрасно знающего все о Небесах и отказывающего в этом знании данам. Персонажи поэмы не ведают о Небесах и не уповают на них. Они упоминают ад — слово языческого происхождения (33). Беовульф говорит, что ад ждет Унферта и Гренделя. Но даже благородный монотеист Хродгар, каким он изображен, если только не поднимать вопрос об оригинальности его речи в стихах 1724—1760, вообще не упоминает о Небесной благодати. Награда за мужество, которое он предсказывает Беовульфу, состоит в том, что его dom будет жить awa to ealdre2, это судьба, также дарованная Сигурду. Подобная идея продолжающегося dom могла, как мы видели, быть христианизированной, но в «Беовульфе» она (возможно, это сделано сознательно) не подверглась христианизации там, где герои говорят от своего лица или где излагаются их собственные мысли.
| 1 |
Но благо тому, кто после смерти предстанет
пред Богом и вымолит у Милосердного мир и убежище в лоне Отца! |
Автор говорит о Беовульфе: «...him of hre![]() re gewat sawol secean so
re gewat sawol secean so![]() f
f![]() tra dom»1. Какого определенного теологического взгляда относительно душ язычников придерживался поэт, нам сейчас разбираться вовсе не обязательно. Он говорит нам попросту, что душа Беовульфа отправилась туда, где творится суд над душами подобных ему праведников, хотя фраза и предполагает, что Беовульф не был осужден на муки ада. В любом случае не возникает сомнений, что изначально в этих словах был заложен языческий смысл. Возможно, so
tra dom»1. Какого определенного теологического взгляда относительно душ язычников придерживался поэт, нам сейчас разбираться вовсе не обязательно. Он говорит нам попросту, что душа Беовульфа отправилась туда, где творится суд над душами подобных ему праведников, хотя фраза и предполагает, что Беовульф не был осужден на муки ада. В любом случае не возникает сомнений, что изначально в этих словах был заложен языческий смысл. Возможно, so![]() f
f![]() stra dom2 означало просто «почтение к справедливо судящим», тот dom, который Беовульф, будучи молодым человеком, провозгласил как главный мотив благородного поведения; но здесь в сочетании с gewat secean это должно означать как славу, которая навечно принадлежит праведникам, так и суд Господа над этими праведниками. Тем не менее Беовульфа, согласно его собственным словам, все же терзали, сомнения, но в конце жизни он объявляет, что его совесть чиста, и задумывается лишь о своем кургане, о памятнике в сердцах людей, о том, что у него нет детей, и о Виглафе, единственном из оставшихся в живых родиче, которому он завещает королевскую власть. Его похороны проходят не по христианскому обряду, награда Беовульфа — это королевская доблесть и безнадежное отчаяние его людей.
stra dom2 означало просто «почтение к справедливо судящим», тот dom, который Беовульф, будучи молодым человеком, провозгласил как главный мотив благородного поведения; но здесь в сочетании с gewat secean это должно означать как славу, которая навечно принадлежит праведникам, так и суд Господа над этими праведниками. Тем не менее Беовульфа, согласно его собственным словам, все же терзали, сомнения, но в конце жизни он объявляет, что его совесть чиста, и задумывается лишь о своем кургане, о памятнике в сердцах людей, о том, что у него нет детей, и о Виглафе, единственном из оставшихся в живых родиче, которому он завещает королевскую власть. Его похороны проходят не по христианскому обряду, награда Беовульфа — это королевская доблесть и безнадежное отчаяние его людей.
2 Досл. «слава праведников».
Взаимоотношения христианской и языческой мыслей в «Беовульфе» нередко интерпретировались неправильно. Автор был далек от того, чтобы смешивать христианство и германское язычество, однако он отразил или попытался отразить различия и передать настрой и взаимоотношения персонажей, складывающиеся драматично, как сама жизнь в благородном, но языческом прошлом. При рассмотрении текста поэмы встает ряд проблем, касающихся аутентичности вторичного, более позднего ретуширования (34). Вероятно, в некоторых местах она пострадала от переделок, но в целом мы не можем говорить ни о путанице (в мыслях поэта или в образе мысли людей целого периода времени), ни о сумбурных представлениях, эту путаницу породивших. Куда больше смысла можно извлечь из поэмы, если принять как вполне достоверную мысль о. том, что поэт пытался создать нечто определенное и сложное, мотивированное и продуманное, однако исполнение этого замысла не оказалось в полной мере успешным.
Наиболее весомый аргумент в пользу того, что язык не является в целом ни случайным, ни нелепым, заключается в том факте, что сам он демонстрирует очевидную дифференциацию. Мы можем, основываясь на религиозных и философских коннотациях, выделить, например, язык: а) поэта как рассказчика и комментатора, б) Беовульфа, в) Хродгара. Подобная дифференциация едва ли могла быть достигнута человеком, у которого путаница в голове, и тем паче не могла явиться результатом редакторской правки. Случайность может преобразовать изначально стоявшее в строке 2186 выражение drihten Wedera («повелитель ведеров») в распространенный христианский эпитет drihten wereda («повелитель воинов»). Это преобразование, несомненно, остается на совести переписчика или кого-нибудь из его предшественников, для которого Dominus Deus Sabaoth был куда привычнее, чем Хретель и ведеры. Однако, на мой взгляд, никто не станет приписывать подобную путаницу автору.
У меня нет намерения доказывать наличие дифференциации, углубляясь в анализ всех необходимых стихов поэмы. Оставляю это тем, кто будет работать с текстом в дальнейшем, отмечу только, что необходимо обратить более пристальное, чем обычно, внимание на обстоятельства, в которых речь заходит о религии и Судьбе, или мифологический контекст, в котором каждая из них появляется, и таким образом четко разграничить то, что обозначается как oratio recta («прямая речь») каждого из персонажей или отмечается как передача или пересказ его слов и мыслей. Тогда станет совершенно очевидным, что поэт, рассказывающий и комментирующий, стоит особняком. Два самых многоречивых персонажа, Беовульф и Хродгар, также весьма отличаются друг от друга. Хродгар непременно изображается как мудрый и благородный монотеист, созданный по образу ветхозаветных патриархов и царей. Он все толкует в пользу Божью и никогда не упускает случая высказать самую искреннюю благодарность Его милости. Беовульф лишь изредка упоминает Бога иначе, как Судию, разрешающего критические обстоятельства, и выражает свое обращение через Metod («Творец», благодаря чему образ Бога почти отождествляется с образом древней Судьбы. Например, он говорит: «...g![]()
![]() a wyrd swa hio seel»1, хотя и тут же добавляет, что Всевышний (Dryhten) «рассудит, кому погибнуть» (стр. 441). В дальнейшем он явно отождествляет wyrd и metod (стр. 2526 и далее) (35).
a wyrd swa hio seel»1, хотя и тут же добавляет, что Всевышний (Dryhten) «рассудит, кому погибнуть» (стр. 441). В дальнейшем он явно отождествляет wyrd и metod (стр. 2526 и далее) (35).
Это Беовульф говорит: «...wyrd oft nere![]() unf
unf![]() gne eorl, ponne his ellen deah»1 (сразу после того, как называет солнце bеасеn Godes2), в то время как поэт говорит о человеке, спасшемся от дракона: «..swa m
gne eorl, ponne his ellen deah»1 (сразу после того, как называет солнце bеасеn Godes2), в то время как поэт говорит о человеке, спасшемся от дракона: «..swa m![]() g unf
g unf![]() ge еа
ge еа![]() е gedigeon wean ond wr
е gedigeon wean ond wr![]() csi
csi![]() , se
, se ![]() e Wealdendes hyldo gehealdep» (2291)3, Беовульф лишь дважды искренне благодарит Бог» или признает Его участие: в стр. 1658—1661, где он упоминает о Божьей защите и покровительстве во время битвы под водой, и в своей последней речи, когда благодарит Frean Wuldurcyninge... ecum Dryhtne4 за сокровища и помощь, оказанную в завоевании оных для своего народа. Обычно он ничего подобного не высказывает, приписывая покорение морских чудищ удаче hwaepre me gesaelde5 (сравните с аналогичными словами, произносимыми о Сигмунде6). В своей речи перед Хигелаком он объясняет свое спасение под водой:«Naes ic fr
e Wealdendes hyldo gehealdep» (2291)3, Беовульф лишь дважды искренне благодарит Бог» или признает Его участие: в стр. 1658—1661, где он упоминает о Божьей защите и покровительстве во время битвы под водой, и в своей последней речи, когда благодарит Frean Wuldurcyninge... ecum Dryhtne4 за сокровища и помощь, оказанную в завоевании оных для своего народа. Обычно он ничего подобного не высказывает, приписывая покорение морских чудищ удаче hwaepre me gesaelde5 (сравните с аналогичными словами, произносимыми о Сигмунде6). В своей речи перед Хигелаком он объясняет свое спасение под водой:«Naes ic fr![]() ge pa gyt» (2141)7, в то время как о Боге не упоминает вовсе.
ge pa gyt» (2141)7, в то время как о Боге не упоминает вовсе.
2 Божий светоч.
3 Досл. «Так человек, которому не суждено умереть вскоре, может перенести тяготы и дальнее странствие, ибо ему в помощь милость Божия».
4 Досл. «Господа, Царя Славы... Вечного Бога».
5 574a, досл. «все же мне посчастливилось».
6 890a, досл. «все же ему посчастливилось» — hw
7 Досл. «Видно, меня еще не призвали».
Беовульф, конечно, знает и о Боге, и о Страшном Суде: он сам говорит об этом Унферту; он провозглашает, что Гренделю предопределены midan domes1 и суд stir metod2, и, наконец, в своем последнем слове он произносит, что Waldendfira3 не может обвинить его в mor![]() orbealo maga4. Однако преступления, которых, по его собственным словам, ему удалось избежать, находят отголосок и «Прорицаниях вёльвы» (стр. 38—39), где в мрачном доме содержатся merm meinsvara ok mar
orbealo maga4. Однако преступления, которых, по его собственным словам, ему удалось избежать, находят отголосок и «Прорицаниях вёльвы» (стр. 38—39), где в мрачном доме содержатся merm meinsvara ok mar![]() varga (клятвопреступники и убийцы)5.
varga (клятвопреступники и убийцы)5.
2 979a, досл. «светлой судьбы».
3 2741b, досл. «Владыка пламени».
4 2742a, досл. «насильственной смерти родственников».
| 5 |
Видела дом, далекий от солнца,
на Береге Мертвых, дверью на север; падали капли яда сквозь дымник, из змей живых сплетен этот дом. Там она видела — шли через потоки поправшие клятвы убийцы подлые и те, кто жен чужих соблазняет; Нидхёгг глодал там трупы умерших, терзал он мужей — довольно ль вам этого? |
Все прочие упоминания (о вышних силах) случайны и формальны — например, beorht beacen Godes1 (571). Единственное исключение Godes leoht geceas2 2469 — в описании смерти Хределя, деда Беовульфа. Эти слова обращены к Небу, оба выражения непреднамеренно почерпнуты из христианской поэзии. Первое, beacen Godes, вполне могло употребляться даже каким-нибудь язычником, если принять положение о том, что добрые язычники, не смущаемые и не обманутые дьяволом, знали о Едином Боге. Но второе, в особенности по той причине, что оно вложено в уста самого Беовульфа, является весьма неуместным. Причем мы не можем предположить здесь поздней правки, поскольку морализирующий редактор вряд ли стал бы дополнять подобной деталью описание смерти языческого короля. Он либо превратил бы его из язычника в христианина, либо вовсе отправил прямо в Ад. Вся история, о которой идет речь, является языческой и безнадежной, в ней рассказывается о кровной вражде: когда брат убивает брата, отцовская скорбь становится еще сильнее оттого, что месть невозможно осуществить. Видимо, объяснение в данном случае приходится искать не в том, что поправка была внесена христианским редактором, а в том, что «Беовульф» создавался в рамках уже сложившейся христианской поэтической традиции, с которой автор был хорошо знаком. Язык «Беовульфа» был, скорее, «оязычен» автором с конкретной целью, а не христианизирован (им или позднее) без всякой цели. Язык поэмы становится более понятным, если мы примем тот факт, что он несет в себе следы христианизации и демонстрирует знакомство автора с сюжетами и темами Ветхого и Нового Завета. Между Кэдмоном и создателем «Беовульфа» проходит временной разрыв — неважно, насколько длинный, но, несомненно, важный с точки зрения поэтики. Таким образом, в древнеанглийском мы можем не только обнаружить примеры того, как язык героического прошлого нередко деформировался и использовался для создания христианских легенд (например, в «Андрее» и «Елене»), в «Беовульфе» язык христианский по своей тональности иногда (пусть и изредка) непреднамеренно вкладывался в уста персонажа-язычника. «Беовульф» не является в полной мере произведением отточенным. Но что касается выражения Godes leoht geceas, одного из главных изъянов подобного рода, то следует отметить, что на всем протяжении пространной речи Беовульфа (стр. 2425—2515) поэту с трудом удается соблюсти правило прямой речи. В самом конце он напоминает себе и нам, вводя оборот «Беовульф измолвил» («Beowulf ma![]() elode», 2510a), что это говорит Беовульф. В строках 2444—2489 перед нами вовсе не монолог и слова Godes leoht geceas сочетаются, скорее, с gewat secean so
elode», 2510a), что это говорит Беовульф. В строках 2444—2489 перед нами вовсе не монолог и слова Godes leoht geceas сочетаются, скорее, с gewat secean so![]() f
f![]() stra dom3 как выражение авторского взгляда на судьбу праведного язычника.
stra dom3 как выражение авторского взгляда на судьбу праведного язычника.
2 2469b, досл. «выбрал Свет Божий».
3 2819b — 2820b «отправилась искать славы праведников». В тексте речь идет о душе.
Даже допустив, что в процессе осуществления замысла возникали изъяны, а также что в характер персонажей по мере развития действия преднамеренно вносились изменения (старый Беовульф, таким образом, в конце концов оказывается похожим на Хродгара), все равно совершенно очевидно, что характеры и чувства двух главных действующих лиц были и задуманы, и изображены по-разному. Когда поэт излагает нам мысли самого Беовульфа, не возникает сомнений, что этот персонаж полагается на собственную силу, а то, что обладание подобной силой является «милостью Божьей», — уже комментарий поэта, напоминающий суждения христиан-скандинавов о своих языческих богах. Так, в строке 6691 говорится geome truwode modgan m![]() gnes, metodes hyldo2. Соединительный союз невозможен с точки зрения размера, следует избегать его появления и при переводе: «...милость Божья являлась обладанием силой». Сравните строки 1270—1271:
gnes, metodes hyldo2. Соединительный союз невозможен с точки зрения размера, следует избегать его появления и при переводе: «...милость Божья являлась обладанием силой». Сравните строки 1270—1271:
|
hw gimf |
| 2 | 669b — 670b
себя вверяя
Господней милости и силе рук своих. |
| 3 |
Благо от Бога, дан человеку
дар многославный, сила и храбрость. |
Было это известно (cupon) или нет (heofena helm herian, пе cupon1), — самое выдающееся качество героев древности являлось особым даром Бога и потому оказывалось достойным восхищения и похвалы.
Что же касается Беовульфа, то поэт, в конце концов, рассказывает нам: когда стало известно об опустошительных набегах дракона, герой преисполнился сомнений и пришел в смятение: ...wende se wisa p![]() t he Weoldende ofer ealde riht ecean Dryhtne bitre gebulge1. Считается, что ofer ealde riht (против древнего права) имеет здесь христианскую интерпретацию, но вряд ли дело в этом. Это языческий и дохристианский страх перед непостижимой силой, Metod, которую можно оскорбить непредумышленно: это печаль человека, знавшего о Боге и стремившегося к праведности, но все еще слишком далекого от того и другого — вот почему «Ад жил в его сердце».
t he Weoldende ofer ealde riht ecean Dryhtne bitre gebulge1. Считается, что ofer ealde riht (против древнего права) имеет здесь христианскую интерпретацию, но вряд ли дело в этом. Это языческий и дохристианский страх перед непостижимой силой, Metod, которую можно оскорбить непредумышленно: это печаль человека, знавшего о Боге и стремившегося к праведности, но все еще слишком далекого от того и другого — вот почему «Ад жил в его сердце».
| 1 | 2329a — 2331a.
И думал всемудрый, что Бог гневится,
Создатель карает за то, что древние не блюл он заповеди. |
СТРОКИ 175–188
Эти строки важны и представляют определенную трудность. Мы можем считать их подлинными и оригинальными вплоть до слов helle gemundon on modsefan1, которые абсолютно справедливы по отношению ко всем персонажам, как изображенным, так и лишь упомянутым в поэме, несмотря на то что в данном конкретном месте эти слова относятся лишь к тем, кто отвернулся от Бога и обратился к дьяволу. Последнее заслуживает самого пристального внимания. Если эти слова аутентичны, то поэт определенно пытался провести грань между Хродгаром, который, несомненно, знал о Господе и благодарил Его столь часто, и определенной группой датчан-язычников, введенных в заблуждение «душегубителем» (37), например жрецов и тех, кто обращался к ним со своими бедами. Среди них в особенности выделяются те, кто постоянно служил идолам (Swyk w![]() s peaw hyra2), a вовсе не вся община, что вполне согласуется с христианской доктриной и реальным положением вещей. Можно даже сказать, что поскольку им не был ведом (пе сироп3) и не был открыт Бог Единый, то они не знали (пе wiston4), как Ему поклоняться. В любом случае геенский огонь грозил только тем, кто совершал языческие обряды (sli
s peaw hyra2), a вовсе не вся община, что вполне согласуется с христианской доктриной и реальным положением вещей. Можно даже сказать, что поскольку им не был ведом (пе сироп3) и не был открыт Бог Единый, то они не знали (пе wiston4), как Ему поклоняться. В любом случае геенский огонь грозил только тем, кто совершал языческие обряды (sli![]() ne
ne ![]()
![]() o
o
2 178b, досл. «таков был их обряд».
3 «metod hie ne cupon» (180b) — «Был им неведом Судья Деяний».
4 «ne wiston hie drihten god» (181b) — «не чтили Всевышнего».
5 184а, досл. «грешные дела».
6 188b.
| 7
|
Пел он о том, как Создатель устроил
сушу — равнину, омытую морем, о том, как Зиждитель упрочил солнце и месяц на небе, дабы светили всем земнородным, и как Он украсил зеленью земли, и как наделил Он жизнью тварей, что дышат и движутся. |
| 8 |
Молились идолам, душегубителям,
и, воздавая им жертвы обетные, просили помощи и подкрепления. |
Однако уместно поставить вопрос о том, являются ли строки 180 — 1881 оригинальными и не были ли внесены в них какие-то изменения и исправления. Дело вовсе не в очевидном отличии — эти строки абсолютно необходимы для всей поэмы, и мы не можем выбросить их из текста лишь на том основании, что их толкование и прочтение создают трудности для нас. Дело в том, если только слух и суждение меня не подводят, что их вес и их построение существенно разнятся как с контекстом, в котором они находятся, так и со всей поэмой в целом. Они помещены именно в том месте, где было бы столь соблазнительно сделать дополнение или внести исправление, для этого существуют все условия, позволяющие произвести подобные манипуляции, не вмешиваясь в структуру (38). У меня есть подозрение, что второй полустих 180 строки2 был переделан, в то время как последующие строки полностью видоизменены или оказались на месте краткого пассажа, поясняющего (а это следует само собой из всего содержания поэмы), что они отринули Бога в суровую годину, подвергли себя опасности быть преданными адскому огню. Именно такое пояснение мог сделать поэт, сложивший «Беовульфа», и оно могло исходить из упоминания о поклонении идолам (wigweorpung3) в священном месте Хеорота, содержавшегося в этом узловом эпизоде истории.
| 1 |
Был им неведом Судья Деяний,
Даритель Славы, Правитель Неба, не знали Бога, не чтили Всевышнего. Горе тому, кто нечестьем и злобой душу ввергает в геенский огонь, — не будет ему послабления в муках! Но благо тому, кто по смерти предстанет пред Богом и вымолит у Милосердного мир и убежище в лоне Отца! |
3 176а, досл. «они не ведали Всевышнего Бога».
В любом случае unleugbare Inkonsequenz (Й.Хупс) — очевидная непоследовательность — этого отрывка констатировалась теми, кто предполагал, что благодаря ссылке на Всевышнего автор изображает легендарных датчан и Скильдингов христианами. Если это так, то упоминание о языческом peaw1 является, конечно, странным, однако это единственный (если только очевидный) пример отступления от главной идеи поэмы, и он вряд ли заслуживает внимания. Из всех попыток разобраться с этой непоследовательностью (Inkonsequenz) наименее удовлетворительной является самая последняя, а именно попытка Й. Хупса (39), который ради спасения чести Христианского Бога (Christengott) предполагает, что поэт изобразил датчан обращающимися с молитвами к дьяволу, а все потому, что эти молитвы остаются без ответа. Выходит, поэту приписывается ложное или лицемерное суждение, которое для среднего англосакса было бы слишком глубоким и слишком модернизированным, сложно поверить, чтобы он был настолько плохо осведомлен о природе христианской молитвы, кроме того, предположение о том, что все молитвы к Христианскому Богу (Christengott) оказываются услышанными, причем сразу, едва ли завоюют сторонников даже среди самых глупых представителей аудитории. Опираясь на столь никудышную теологию, он столкнулся бы со множеством других трудностей: продолжительное время, которое датчане провели в скорби, ожидая прибытия Скильдинга, а также и вовсе его попустительство нападению Гренделя на христианский народ, который не совершил никакого преступления, чтобы заслужить подобное наказание. На самом деле Господь даровал избавление от Гренделя в лице Беовульфа, и признание этого поэт вложил в уста Хродгара (строка 381 и далее2). Каким бы ни было наше мнение относительно этой непоследовательности, поэта, создавшего «Беовульфа», можно оправдать, ибо в его действиях не содержалось умысла. Вряд ли ему в меньшей степени, чем нам, было известно, что в истории (Англии и других стран) и в Священном Писании рассказывается о том, как люди отступались от одного бога и начинали служить другому в годину ненастья, в особенности потому, что Бог никогда не гарантировал своим почитателям защиты от временных трудностей как до, так и после вознесения молитвы. Именно к идолам люди обращались и обращаются за скорыми и определенными ответами.
| 2 |
Они рассказывали
как тридцать ратников переборол он одной рукою. Бог Всеблагой направил к данам, послал, Милосердный, этого мужа — так я думаю — против Гренделя, и я героя, по дружбе, как должно, дарами встречу! |
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
1. Cockayne О., ed. «The Shrine», p. 4.
2. В знаменитой библиографии профессора Р. У. Чамберса (в его книге «Введение в «Беовульф»» мы обнаруживаем (§ 8). «Вопросы истории изучения, датировка и авторство; «Беовульф» в свете истории, археологии, героических легенд, мифологии и фольклора». Впечатляет, хотя тут и нет раздела под названием «Поэзия». Некоторые из перечисленных трудов все же имеют отношение к поэтике, но все они разбросаны тут и там и погребены в недрах восьмого параграфа.
3. См. книгу Beowulf Translated Into Modern English Rhyming Verse. Ed. Archibald Strong. London: Constable, 1925.
4. Я выбрал этот пример потому, что именно в общей истории литературы нам следует искать оценку «Беовульфа» как литературного произведения. Специалистов по части Беовульфианы она вообще заботит очень редко. И только в самых кратких обзорах, как, например, в упомянутом выше, мы обнаруживаем, что в результате процесса переваривания на свет появилась литература определенного сорта. В данном случае она является дистиллированным продуктом исследования. Более того, этот обзор весьма глубок и написан человеком, который, в отличие от многих других писателей подобного рода, прочел поэму, причем внимательно.
5. Я включаю только те мнения, которые были когда-либо и кем-либо высказаны, однако я не привожу их дословно.
6. Ker W. P. «The Dark Ages», стр. 252–253.
7. Тем не менее в средневековом разделе «Английской литературы» У. П. Кер изменил свое мнение. В целом, хотя и в общих словах, более неопределенных и не столь резких, он повторяет самого себя. Нам по-прежнему говорят, что «сюжет является общим местом, а замысел слаб или что история слишком бедна и немощна». Однако в конце этого пассажа сказано: «Те, кто предполагает, что аллюзии не являются составной частью сюжета, заблуждаются в своем понимании соразмерности. Аллюзии придают ощущение реальности и весомости. История не подвешена в воздухе... она — часть целостного мира». Делая столь основательное допущение для роли, которую играет художественный замысел в процессе создания произведения, Кер, таким образом, начинает рыть подкоп под свою критику по отношению к структуре поэмы. Но высказанная в этих строках мысль не получает дальнейшего развития. Возможно, это была именно та мысль, которая, появившись в голове У. П. Кера, породила слишком туманное и резкое замечание о «Беовульфе» как о «дешевом бульварном романе» — впрочем, оно появилось в его весьма незначительной книге и оказало куда меньшее влияние.
8. См. предисловие к переводу А. Стронга.
9. Влияние оказали как процесс распространения «английских школ», в программе которых для «Беовульфа» обязательно находилось место, так и последовавшее за ним появление кратких историй литературы, которые (в действительности, если не предумышленно) удовлетворяли запросам тех, кому были нужны сведения и готовые суждения о произведениях, с коими у них не было времени или желания ознакомиться непосредственно. Сомнительная литературная ценность подобных кратких обзоров нередко обозначена в них самих, так, А. Строит отмечает, что «неправомерно давать оценку поэме в кратком резюме». У. П. Кер в средневековом томе «Английской литературы» пишет: «...в подобном кратком изложении это не очень-то интересная история». Вне всяких сомнений, он осознавал, какое можно привести возражение, потому что добавил, оправдывая свой подход: «Изложенные подобным образом истории Тезея и Геркулеса содержали бы гораздо больше». Я возражаю. Но это не имеет значения, потому что сравнение двух сюжетов, «изложенных подобным образом», не позволяет судить о достоинствах литературных произведений, поскольку там-то они изложены совсем иначе. Лучшая поэма вовсе не обязательно та, которая менее всего теряет, превращаясь в подстрочник.
10. А именно использование этой легенды в «Беовульфе» и для драматичного изображения прозорливости Беовульфа как героя, и в качестве неотъемлемой составляющей традиционных преданий о Скильдингах, той сцены, на фоне которой выведен герой. В более позднее время аналогичную роль играл Двор короля Артура. Следует также учесть аллюзию на эту традицию в послании Алкуина Сперату. См.: Chambers R. W. «Widsith». С. 78.
11. Вполне мозможно, что выражение было на самом деле произнесено старым дружинником, но тем не менее или точнее, оно должно восприниматься не как случайная реплика, а как древний и почитаемый афоризм, имеющий давнюю историю.
12. Что касается слов «Духом владейте, доблестью укрепитесь, сила иссякла — сердцем мужайтесь» («Битва при Мэлдоне», стр. 312–313), то они, конечно, не являются обыкновенным призывом мужаться. Это не просто напоминание о том, что судьба предпочитает храбрых или что победу можно потерять, потерпев поражение из-за своего упрямства (подобные мысли могли выражаться и по-иному: «Судьба от смерти того спасет, кто сам бесстрашен», стр. 574—575). Слова Бюрхтвольда относятся к последним и лишенным надежды дням человека.
13. Отсылаю вас еще раз к предисловию к переводу А. Стронга (стр. XXVIII).
14. Это не совсем так. Дракон не описывается в тех же самых терминах, что Грендель или первозданные великаны.
15. Он отличается несколькими особенностями, о которых речь пойдет ниже.
16. Я бы сказал, что он действует в героическую эпоху Севера — в такую, которая была придумана христианином, — и посему обладает благородством и великодушием, хотя и вынужден оставаться язычником.
17. Например, «Беовульф» мимоходом и даже презрительно обойден в последней и в чем-то презрительной статье доктора Ватсона.
18. Ker W. P. «The Dark Ages», стр. 57.
19. Если мы рассматриваем период в целом. Однако это не обязательно по отношению к отдельным личностям. С самого начала оно имело множество градаций: от глубокого погружения и осознания до беспорядочных представлений и полного неведения.
20. Избегание очевидных анахронизмов (например, таких, какие можно встретить в «Юдифи», когда главная героиня упоминает в своей речи Христа и Троицу), отсутствие имен и терминов, которые можно однозначно расценить как христианские, является абсолютно естественным и преднамеренным. Следует учитывать присутствующую разницу между комментариями автора и вещами, которые излагаются в речах, вложенных в уста персонажей. Два главных героя, Хротгар и Беовульф, также отличаются друг от друга. Единственные точные отсылки к Писанию, истории Авеля (108) и Каина (108, 1261) присутствуют именно там, где поэт выступает со своим комментарием. Сведения о предках Гренделя также неизвестны действующим лицам: Хротгар утверждает, что ему неведомо о происхождении Гренделя (1355). Великаны (1688 и далее) изображены, причем весьма красочно, с помощью терминологии, почерпнутой из Писания. Однако дело, скорее всего, в том, что автор идентифицировал исходный и библейский образцы, расцветил свой рассказ красками Писания, поскольку из двух образов библейский представлялся ему более достоверным. Если так, то он стал от этого ближе к тому, который сложился в древние времена, когда был выкован меч, в особенности потому что wundorsmipas (чудокузнецы), которые его выковали, и были гигантами: они-то и знали истинное предание, см. прим. 25.
21. Фактически истинное подобие «Энеиды» и «Беовульфа» заключается в неизменном присутствии в поэмах образа богатой сюжетами древности, все время выступающего рука об руку с мрачной и благородной меланхолией. В этом они действительно похожи и отличаются от более плоской, хотя и блестящей поверхности творений Гомера.
22. Я привожу этот пример вслед за Р. У. Чамберсом, поскольку Грендель очень сильно похож на циклопа. Однако этим примером дело не ограничивается: посмотрите на Кака, отпрыска Вулкана. Наводит на размышления и очевидная асимметрия в историях наказания Прометея и Локки: одного карают за помощь людям, другого — за помощь силам тьмы.
23. Вообще-то в классической мифологии вражда не имеет какого-либо определенного истока, в данном случае нам вполне достаточно просто констатировать этот факт, мы не станем углубляться в истоки мифологии как Севера, так и Юга. Боги, Крониды или олимпийцы, титаны и прочие силы природы, — разнообразные чудовища, также местные, весьма незначительные духи и привидения не могут быть четко разграничены по своему происхождению. В среде столь неоднородного сонма богов Олимп не вел никакой постоянной войны, которой могла бы быть посвящена и привержена вся храбрость человеческая. Конечно, нельзя ожидать абсолютно четкого разграничения, поскольку враг в любом случае находится и снаружи, и изнутри, крепость должна пасть как в результате предательства, так и нашествия. Грендель обладает искаженным человеческим обликом, великаны и ![]() tnar
tnar
24. «Бытие» дошло до нас в позднем списке с поврежденного оригинала, однако со всей определенностью можно сказать, что наиболее древние части поэмы относятся к раннему периоду англосаксонской литературы. «Бытие А» древнее «Беовульфа» — это общепринятое мнение основывается на наиболее вероятном толковании имеющихся в нашем распоряжении доказательств.
25. Есть основания предполагать, что поэту было известно о том, насколько древними являются предания о сотворении мира в литературе Севера. «Прорицание вёльвы» описывает хаос и сотворение Солнца и Луны, подобные формулировки встречаются и в «Вессонбрунской молитве»1.
| 1 |
Весть мне поведали люди,
дивную мудрость великую что не было древле земли, ни выси небесной, ни древа, ни гор, ни звезды, велелепного моря, и солнце еще не сияло, луна не светила допреж... Когда было ничто без конца и без краю, был лишь только Господь Всемогущий. И с Господом вкупе ангелы славные встарь пребывали И Бог наш Святой... Пер. Т. Сулиной
|
В конце пятой книги «Энеиды» песнь Иопада, получившего свои знания от Атласа, также является песнью о сотворении: «Hic canit errantem lunam solisque labores; unde hominum genus et pecudes; unde imber et ignes»1. В любом случае взгляд поэта-англосакса заключается в том, что истинное или более близкое к истине знание принадлежало древним временам, по крайней мере, они знали единого Бога, но затем были совращены дьяволом, и образ Творца, хотя и не небес, оказался утрачен. См. прим. 20.
| 1 Вообще-то говоря, речь идет не о пятой, а первой книге, стр. 740–743 |
|
Золоченую взявши кифару,
Тут Иопад заиграл, Атлантом великим обучен. Пел о блужданьях луны, о трудных подвигах солнца, Люди откуда взялись и животные, дождь и светила... |
26. В строках 75 и далее поэт, скорее, говорит о вероотступничестве Ветхого Завета, а не о конкретных событиях в Англии (о которых он и не упоминает) — и это отражает его манеру выстраивать аллюзии по отношению к познаниям, которые он мог почерпнуть из национальных преданий о датчанах и того особого значения, которое имел для язычников Хеорот, — ведь именно это значение могло придавать остроту вражде между данами и хеатобардами. Если так, то мы являемся свидетелями еще одного слияния образов старого и нового. Об особой важности и трудностях, возникающих при прочтении строк 175—188, см. Приложение Б.
27. Хотя, ссылаясь именно на это издание, мы тут же выражаем с ним свое несогласие, следует отметить, что оно, конечно, обладает огромным авторитетом и те, кто им пользовался, почерпнули из него немало полезного.
28. Я не рассматриваю мелкие несоответствия, возникающие в поэме. Они вовсе не свидетельствуют о том, что у поэмы было несколько авторов или что автор был не в достаточной степени компетентен. Даже сызнова придуманной истории — какой бы длины она ни была — сложно избежать подобных изъянов, тем более если речь идет о переработке преданий старых или рассказывавшихся в древности. Все эти несоответствия очевидны в процессе исследования, в особенности если у вас под руками печатное издание с пронумерованными стихами, так что вы можете заглядывать туда-сюда, а не читать или воспринимать поэму последовательно, от начала до конца, как это, собственно, и предполагалось, но подобные недочеты вполне могли оказаться неочевидными или ускользнуть от внимания самого автора и уж тем более его аудитории. Немало аналогичных примеров можно обнаружить у Вергилия, причем в пределах отдельно взятой книги «Энеиды». Даже современные сказки, которые тиражируются при помощи печатного станка и уже по определению обладают преимуществом, поскольку просматриваются корректором, и то заикаются, когда речь заходит о крестном имени героини.
29. Наименее удовлетворительное решение заключается в том, чтобы читать только строки 1—1887, отбрасывая вторую часть, и именно подобный подход время от времени предлагается в рамках курсов по истории английской литературы.
30. Эквивалент вовсе не означает равенства, поскольку подобный процесс не может совершаться абсолютно механически.
31. То, что сам носитель враждебности, а именно дракон, тоже умирает, имеет значение именно для Беовульфа. Беовульф был человеком великим, а ведь не столь уж многим, хотя бы ценой смерти, удавалось не только убить хотя бы одного змея, но и принести тем избавление своим сородичам. В рамках одной человеческой жизни и деяния Беовульфа, и его смерть были не напрасны, так мог рассудить храбрый человек. Но нет ни единого намека (наоборот, множество как раз противоположных) на то, что эта война велась с целью положить конец войне или что битва с драконом была призвана уничтожить драконов. Это конец Беовульфа, конец надеждам, которые питали его люди.
32. Вообще-то, об этом периоде его жизни нам удается разузнать не так уж мало: было бы несправедливым говорить о поэме даже в том виде, в каком она нам досталась, что после подвига в Хеороте герою нечем заняться. Великие герои, подобно великим святым, должны уметь справляться с задачами повседневными, хотя к их разрешению они прикладывают силы куда большие, чем обычные люди. Нам бы хотелось получить подтверждения этого (и поэт дает их нам), не требуя, чтобы он поместил именно эти задачи в центре, поскольку мысли у него наверняка были совсем не об этом.
33. Не имевший, насколько нам известно, никакой определенной локализации. Отдельные элементы северных представлений, смешавшихся и сравнявшихся с библейскими, можно обнаружить в эпитетах, описывающих христианский Ад. Впечатляющим примером являются слова поэмы «Юдифь» о смерти Олоферна, прямая параллель к которым обнаруживается в «Прорицании вёльвы».
34. Например строки 168—169, возможно, вставленные неумело. Все, что о них можно сказать определенного, так это то, что они разрывают естественную связь, даже если смысл остается ясен, между строками 165—167 и строкой 170. Возможны также дополнение, на этот раз вполне умелое и уместное, речи Хротгара (1724—1760), и, что наиболее вероятно, внесение в текст строк 175—188.
35. Конечно, употребление слов, в большей или меньшей степени являвшихся синонимами «судьбы», продолжалось на протяжении веков. Наиболее христианские поэты говорят о wyrd по отношению к несчастьям, однако в «Елене» (строка 1047) обращение Иуды в христианство приписывается wyrd, но уже в положительном смысле. Конечно, в первую очередь речь идет о роли неизбежного Провидения (Metod), в бытовом плане воплощающегося в «судьбу» или «удачу». Metod в древнеанглийском наиболее тесно связано с судьбой, хотя нередко это слово используется в качестве эпитета для обозначения Господа. Конечно, подобное словоупотребление свидетельствует о его конкретном значении (равно как и в абстрактном смысле) в древнеанглийском, поскольку на Севере однокоренное с ним слово mj![]() tu
tu![]() r имеет значения «управляющий», «владыка» и «рок», «судьба», «смерть». Но в древнеанглийском metodsceaft означает «рок» или «смерть», см., например, строки 2814 и далее, где wyrd выступает в более активной роли, чем metodsceaft. В древнесаксонском metod также используется по отношению к неизбежным (и даже враждебным) проявлениям этого мира, а metod(o)giscapu и metodigisceft означают Судьбу, аналогично metodsceaft в древнеанглийском.
r имеет значения «управляющий», «владыка» и «рок», «судьба», «смерть». Но в древнеанглийском metodsceaft означает «рок» или «смерть», см., например, строки 2814 и далее, где wyrd выступает в более активной роли, чем metodsceaft. В древнесаксонском metod также используется по отношению к неизбежным (и даже враждебным) проявлениям этого мира, а metod(o)giscapu и metodigisceft означают Судьбу, аналогично metodsceaft в древнеанглийском.
36. Сравните, например, описание грозного языческого нрава в «Саге о названных братьях» (гл. 2): «Больше думали они всегда о славе этого мира, чем о блаженстве радостей мира иного. Поэтому они дали обет, что тот из них, кто будет жить дольше, отомстит за другого, и принесли в этом клятву» — и ниже: «...хотя тех людей называли христианами, все же в то время христианство было молодым и очень неладным, ибо много искр язычества тлело под ним и ложные обычаи были в ходу»1.
37. Было бы неправомерным говорить так, как это делает Й. Хупс, о том, что он идентифицируется с языческим богом. Согласно христианскому вероучению, подобные боги не существовали и были изобретением дьявола и идолы обладали силой постольку, поскольку он сам или кто-либо из его сподручных вселялся них, однако его отвратительный облик можно было рассмотреть, если избавиться от пелены, застилавшей зрение. Сравните, например, гомилию Эльфрика о святых апостолах Матфее и Варфоломее, где благодаря действиям ангела или святого дьявол, прячущийся внутри идолов, появляется наружу в образе черного эфиопа (silhearwa).
38. Уже сам поэт наделил Хротгара весьма выдающимся характером, который к тому же вызвал, причем без особого ущерба для общего смысла, возможное дополнение, вставку, более распространенную версию его заключительной речи. Этот отрывок совершенен сам по себе, однако поэма только выиграла бы, если полностью убрать строки 1740—1760. Причем есть и другие совершенно независимые основания полагать, что эти строки являются более поздней переделкой или вставкой. Тем не менее даже если это так, то они вправлены настолько хорошо и ладно, с аккуратностью, которую я бы отнес к числу достоинств, характеризующих изначальную версию.
39. «Kommentar zum Beowulf». S. 39.
О ПЕРЕВОДЕ «БЕОВУЛЬФА»
1. По поводу перевода и лексики
Как правило, никто не рассуждает о том, зачем переводить «Беовульфа». Однако необходимость создания или, во всяком случае, публикации переложений на современный английский требует обоснования, особенно если перевод мастерски написанной (говоря кратко) поэмы сделан простым прозаическим языком. Подобное предприятие связано с определенной долей риска. Слишком много людей готовы составить мнение или даже опубликовать свое суждение об этом величайшем из уцелевших поэтических произведений древнеанглийской литературы, ознакомившись с переводом или даже просто «пересказом» вроде того, что предлагается в настоящем издании. Видимо, после такого поверхностного знакомства один известный критик сообщил своим читателям о том, что «Беовульф» является «просто выдохшимся пивом». Хотя если и пиво, то темный и горький напиток... священный погребальный эль с привкусом смерти. Мы живем в эпоху доморощенной критики и наскоро состряпанных литературных мнений; и, к сожалению, переводы нередко использовались для приготовления суррогатов подобного рода.
Пользоваться для этого прозаическим переводом абсолютно бесполезно. «Беовульф» не просто сложен стихами — это великая поэма, и сам факт того, что в переводе не было предпринято попытки воспроизвести размер оригинала, а прозаический текст как таковой способен запечатлеть лишь немногие поэтические особенности, достаточен, чтобы исправленный или изначальный текст перевода доктора Кларка Холла не привлекался для вынесения суждений и не подменял знакомства непосредственно с оригиналом. Цель прозаического перевода — оказать помощь при изучении поэмы.
Если вас заботят не поэтические, а иные проблемы, например имена героев, ныне преданные забвению, или упоминания о древних обычаях или верованиях, в этом тщательно сделанном переводе вы сможете найти все, что требуется для сравнительного источниковедения. Или почти все — поскольку использование «англосаксонских» данных, конечно, никогда не даст вам стопроцентно достоверной информации, если вы вовсе не знакомы с языком оригинала. Ни один перевод, целью которого является доступность, не отображает сам по себе, без тщательно составленных комментариев, отсылающих к оригиналу, все оттенки смысла и трактовки, предлагаемые текстом. Например, невозможно в переводе воспроизвести повторяющееся в оригинале слово одним современным словом. А повторы могут иметь значение.
Таким образом, «сильный» в строке 198, «открытый» в 1621, «великий» в 1663 и «могучий» в 2140 являются переводами одного лишь слова еасеп, в то время как родственное слово eacencraeftig, относящееся к кладу дракона, в 2280 и 3051 переведено как «могучий». Эти эквиваленты вписываются в контекст, и фразы на современном английском расцениваются как правильные. Но исследователь древних верований, пропустив слово еасеп, пропустит подсказку о том, что в поэзии это слово сохранило особый смысловой оттенок. В оригинале оно означает не «большой», а «увеличенный» и во всех случаях подразумевает не просто размер и силу, но прибавление силы, переходящие установленные природой пределы, относится ли это к сверхчеловеческой, тридцатикратной силе, которой обладал Беовульф (в нашей христианской поэме это особый дар Господа), или к таинственным мистическим силам, живущим в мече великана и кладе дракона с наложенными на него рунами и заклятиями. Даже eacne eardas (1621)1, где обитали чудовища, становилось от этого еще более и более опасным. Это лишь один пример того сложного и интересного, что содержится в языке древнеанглийской поэзии (и «Беовульфе», в частности), того, что ни один литературный перевод не сможет передать точно. Для многих древнеанглийских поэтических слов в современном языке (естественно) просто не существует сходных по поэтике и мелодике аналогов: несущие отголоски древних времен, они пришли к нам из-за темных пределов северной истории. Емкость оригинальной идиомы, не допускающей длинных пояснений, неизбежно теряется при переводе на наш менее точный современный язык. Перевод никоим образом не сможет заменить подробное изучение англосаксонских документов.
Но вы можете заняться более похвальным делом, а именно — попытаться прочитать поэму в оригинале. В этом случае полезность перевода нельзя переоценить. Ему нет нужды становиться подстрочником. Хороший перевод идет рука об руку с честным трудом, тогда как позаимствованный у других подстрочник является (тщетной) подменой настоящей работы с грамматикой и словарями, с чьей помощью, и никак иначе, можно обрести понимание благородных фраз и высокого искусства.
Древнеанглийский (он же англосаксонский) нельзя назвать очень трудным языком, хотя им и пренебрегают те, кто занимается периодом истории, когда на нем говорили и писали. Хотя для древнеанглийской поэзии характерны сложный язык и манера декламации, ее законы, правила и размеры отличаются от тех, что бытуют в современной английской. К тому же стих дошел до нас лишь в отрывках и по чистой случайности был расшифрован и подвергся интерпретации только в последнее время, без опоры на какую-либо традицию и без привлечения глосс: ведь в Англии, в отличие от Исландии, древняя северная поэтическая традиция была полностью уничтожена и забыта. По этой причине многие слова и выражения встречаются редко, а бывает, лишь единственный раз. Многие слова мы находим только в «Беовульфе». В качестве примера можно привести eaten — «великан» (стр. 112 и т. д.). Это слово, как можно судить по косвенным свидетельствам, было хорошо известно, хотя фактически оно записано в своей англосаксонской форме только в «Беовульфе», поскольку эта поэма из дошедших до нас — единственная, сохранившая подобные предания как в устном, так и письменном виде. А вот слово, переведенное как «свита» (стр. 924), в оригинале — hose, встречается только в строке «Беовульфа», хотя филологи могут с уверенностью определить, что это существительное женского рода в дательном падеже hos (англосаксонский вариант верхненемецкого и готского hansa), нам неведомо, было ли это слово не только «поэтическим», но также архаичным и редким уже во времена поэта. Однако следует разобраться в том, должен ли перевод разрабатываться как максимально близкий по содержанию к оригиналу. Подобные лексические тонкости не заботят большинство студентов, но изучение новых слов, которые встречаются очень редко или вообще единственный раз, — это одна из (дополнительных) трудностей, возникающих при знакомстве с древнеанглийской поэзией. Другая трудность заключается в поэтических приемах, как, например, описательных словосочетаниях, которые если и редко бывают необычными, то в целом несвойственны нашему современному литературному и лингвистическому образу мышления. Их точность и огромную значимость (для современников) не так уж легко определить, и их перевод является проблемой для исследователя, которого они зачастую заставляют колебаться. Простейший пример — sundwudu, в дословном переводе «сплавной лес» или «топляк». Но в строке 208 это «корабль» (самое простое решение загадки, и часто наиболее доступное, хотя весьма неадекватное при переводе) и «бревна, дарованные волнами», в строке 19061 (попытка развернуть перед читателем, с риском рассеивания внимания, мгновенно промелькнувшую картинку). Аналогичная ситуация и с выражением swan rod, переведенным как «лебединая дорога» в строке 200; напрашивающееся решение «море» теряло слишком многое в настроении и стиле. С другой стороны, полное раскрытие образа заняло бы гораздо больше места. Буквально это звучало бы как «плавание лебедя»: место, которое для плывущего лебедя то же, что равнина для лошади и повозки. Староанглийское rad, как правило, использовалось для обозначения действия, плавания или скачки, а не так, как его современное производное «road» — проторенная дорога. Куда сложнее такие случаи, как onband beadurune в стр. 5022, использованное злым советником Унфертом и переведенное как «выпустил тайное семя раздора». Буквально это значит — «освободить, расплести руну (или руны) войны». Что под этим подразумевается, не совсем ясно. Это выражение дышит древностью, словно дошло до нашего поэта из времен еще более давних: намек на заклинания, с помощью которых колдуны могли вызвать бурю в ясном небе.
2 «Начал прение».
Эти словосочетания, особенно когда они используются не вместе с такими обычными словами, как scip (корабль) или sae (море) (вошедшими в обиход уже двенадцать столетий назад), а вместо них, делают древнеанглийскую поэзию похожей на головоломку. Так полагали ученые семнадцатого и восемнадцатого веков: даже когда они разобрались с Альфредом и Эльфриком достаточно, «саксонская поэзия» продолжала оставаться сетью загадок и сложных слов, специально сплетенной любителями головоломок. Этот взгляд, конечно, несправедлив: ошибочное представление, достойное лишь новичка. Элемент загадочности присутствует, но древнеанглийская поэзия никогда не была темной и запутанной. Даже среди настоящих стихотворных загадок, сохранившихся в древнеанглийской поэзии, многие являются скорее сжатым, узнаваемым описанием, нежели ребусом1. Поэтические выражения в первую очередь придавали сжатость и емкости, соединяя изобразительные и эмоциональные оттенки со звучным и неторопливым стихотворным ритмом. Но осознание этой манеры не приходит сразу. На первых этапах те, кому эти древние стихи кажутся теперь вполне понятными, несомненно, хорошо это помнят — мы читаем уткнувшись носом в текст: и сюжет, и поэтика теряются за частоколом слов. Задача ученых, независимо от их возраста или степени, — продираться сквозь текст; но и здесь перевод оказывается как раз подходящим подспорьем. Его можно использовать как путеводитель, причем не только в тех сложных местах, которые остаются загадкой для знатоков и сегодня.
Прежняя версия перевода д-ра Кларка Холла сослужила свою службу; но следует также признать, что и она часто вводила читателя в заблуждение, и дело здесь не только в степени соответствия оригиналу (достичь в этом совершенства трудно), но и в гармоничном подборе современных английских слов. Конечно, таких странностей, как в произведении Эрла под названием «Деяния Беовульфа», в ней значительно меньше, хотя «ten timorous trothbreakers together» («десять напуганных клятвопреступников», стр. 28461) приводят на память «two tired toads that tried to trot to Timbury» («двух усталых жаб, пытавшихся поспешить в Тимбури»), и «песня неуспеха» в стр. 7872 (sigeleasne sang — «песнь лишенного триумфа») — стоят друг друга. Переводчик слишком часто употреблял разговорные выражения вроде «уйма врагов» (исправлено на «много»), чуждые стилю оригинала. Слишком часто знать, посланцы и оруженосцы появлялись вместо более подходящих и точных с точки зрения перевода старейшин, чужаков, юных воинов. Огненный дракон предстает то как рептилия, то как саламандра (стр. 2689); драгоценности из его клада названы «сверкающими гранеными каменьями».
2 «Вой побежденного, / вопль скорбящего». — Пер В Тихомирова.
В новой редакции подобные вещи, насколько возможно, исправлены. Даже несмотря на то что это только редакция, а не новый перевод, она является куда лучшим источником. Но ни один перевод, с какой бы целью он ни делался — как пособие для студентов (как эта книга) или стихотворный перевод, стремящийся максимально передать особенности древней поэзии, — не должен быть поводырем для того, кто имеет доступ к оригинальному тексту. Нельзя рабски следовать ему во всем, в частностях и в целом. Возможно, самая важная функция любого перевода, используемого студентом, — быть не образцом для подражания, но материалом для улучшения. Автор перевода часто не может ограничить или, наоборот, показать все варианты, которые приходили ему в голову в процессе работы; а выбор одного решения предполагает наличие других (возможно, более удачных). В попытке,сделать перевод или улучшить уже существующий самое ценное не получившийся вариант, а понимание оригинала. Если марание книг (конечно, только своих) и может быть правильным и полезным занятием, исправление и улучшение перевода, базирующиеся на глубоком изучении текста оригинала, — это хороший повод для того, чтобы поработать с карандашом в руке. Такие записи в любом случае много полезнее, чем другое, гораздо более популярное занятие (особенно при подготовке к экзаменам): вписывать перевод между строк, что только уродует страницу, вовсе не помогая учебе.
Мы уже предостерегали против «разговорности» и ложной современности. Лично вы можете не любить архаичную лексику, порядок слов, характерный для высокого стиля и книжного языка. Вы можете предпочитать новый, живой и остроумный. Но, как бы ни поступали прочие поэты минувших времен (тот же Гомер, к примеру), автор «Беовульфа» не разделял подобных предпочтений. Если вы хотите перевести, а не переписать «Беовульфа», ваш язык должен быть книжным и традиционным: не потому, что прошло много времени с момента создания поэмы, и не потому, что в ней повествуется о вещах, давно ставших историей, а потому, что стиль «Беовульфа» был поэтичным, архаичным (если хотите), искусственным, уже в ту эпоху, когда поэма писалась. Многие слова, используемые древнеанглийскими поэтами, уже в восьмом веке не употреблялись в разговорной речи. Они были знакомы тем, кто владел поэтическим языком, так же как сегодня thou и thy; эти слова были книжными, возвышенными, позиционировались как древние (и утвердились в этой роли). Некоторые слова никогда не употреблялись в разговорном языке в том значении, которое придали им поэты. Это относится не только к поэтическим образам вроде swanrad, но и к простым, часто употребляемым словам, таким, как beorn2 (211 и далее) или freca1 (1563). Они означают «воин», в героической поэзии «муж», или, скорее, поэты использовали эти слова в значении «воин», тогда как в разговорной речи bеоrn было всего лишь формой слова «медведь», a freca — «волк». Они использовались в поэзии, даже когда их первоначальный смысл был забыт. Употребление слов bеоrn или freca определяло язык как поэтический. Они сохранились, когда большая часть слов древнего поэтического языка уже перестала быть достоянием тех, кто писал аллитерационные строки в Средние века. Как bern и freik, они бытуют на севере Англии (особенно в Шотландии) вплоть до сегодняшнего дня; и никогда за всю более чем тысячелетнюю историю они не употреблялись в своем поэтическом значении в разговорной речи.
2 Досл. «жадный», древненорв. freki (волк). — Прим. автора.
Построение литературного языка при помощи архаичных и диалектных слов и образований или слов, использующихся в особых значениях, может не нравиться. Однако для этого есть особый повод: развитие языка понятного, но избавленного от тривиальных ассоциаций, наполненного воспоминаниями о добре и зле, является большим достижением, и люди, владеющие оным, чувствуют себя богаче, чем те, кто не обладает подобной традицией. Это достижение доступно людям, имеющим относительно небольшой материальный достаток и власть (таким, как древние англичане в сравнении со своими потомками); но это не значит, что к нему следует относиться с пренебрежением. Волей-неволей вы все равно исказите наиболее выдающиеся и очевидные черты авторского стиля, если, переводя «Беовульфа», станете сознательно избегать традиционного литературного и поэтического языка, которым мы сейчас владеем, предпочитая ему выражения современные и тривиальные. В любом случае застенчивый и часто глупый смех разбирает нас сразу, стоит только направиться по этому пути. Вещи, с которыми мы имеем дело, достаточно серьезны, волнующи и полны «возвышенных фраз» — только бы подольше у нас хватило терпения и твердости справляться с ними. Остерегаясь собственного легкомыслия и поступая справедливо по отношению к оригиналу, мы станем избегать «хлопков и шлепков» и предпочтем «удары» и «наскоки»; избежим слов «болтать» и «трепаться» и предпочтем им «беседовать» и «рассуждать»; вместо «изящный» и «художественный» поставим «мастерство» и «умение» древних кузнецов; вместо слова «посетители» (предполагающего зонтики, послеполуденный чай и всем уже надоевшие знакомые лица) поставим «странники», с верной нотой настоящего гостеприимства, долгого и тяжелого путешествия и чужих голосов, несущих плохие вести; вместо «благовоспитанные, выдающиеся, учтивые и благородные люди» (ассоциируется с заносчивыми статьями в прессе и толстяками на Ривьере) предпочтем «достойных мужей, храбрых и любезных», людей давно минувшего.
Однако следует избегать опасности впасть и в иную крайность, а это происходит весьма часто. Слова не должны использоваться только потому, что они относятся к устаревшим или вышедшим из употребления. Необходимо выбирать слова, насколько бы далеки от разговорной речи они ни были, которые используются в литературном языке, особенно в поэтическом, в среде образованных людей (которым «Беовульф», собственно, и адресован, вне зависимости от того, в чьих руках он может оказаться по воле случая). Надо уметь обходиться без пояснений. Факт, что это слово все еще использовалось Чосером или Шекспиром или даже позже, не оправдывает его употребления, поскольку в наше время оно исчезло из литературного языка. Еще в меньшей степени перевод «Беовульфа» является подходящим случаем для эксгумации слов из норвежских и саксонских могил. Сентиментальность любителей древностей или филологическая эрудиция здесь совершенно неуместна. Если заменить leode («свободные люди») словом leeds (столь любимым Вильямом Моррисом), то это будет ошибка в переводе с древнеанглийского, a leeds все равно не удастся воскресить. Из употребляемых древнеанглийскими поэтами слов, хотя и заслуживших уважение благодаря своей связи с древней поэзией, предпочтение следует отдать тем, которые стопроцентно уцелели в обращении, а не тем, которые могли бы или должны были бы уцелеть, по мнению антикваров.
Совершенно другой, хотя и родственной, представляется этимологическая ошибка. Большое количество слов, встречающихся в «Беовульфе», сохранилось до нашего времени. Но ориентироваться на этимологическое происхождение при выборе слов — абсолютно неверный подход: wann — это не «бледный», а «темный»; mod — не «настроение», а «дух» или «гордость»; burg — не «городок», а «твердыня»; ealdor — не «олдермен», а «принц»1. Словарный запас древнеанглийской поэзии интересен с филологической точки зрения, но никак не может служить источником для филологического творчества.
Однако трудности, с которыми сталкиваются переводчики, не заканчиваются на выборе общей тональности повествования. Им необходимо найти адекватный эквивалент каждого слова, включая поэтические синонимы и словосочетания. Перевод каждого отдельного слова подразумевает или, во всяком случае, должен подразумевать больше чем просто обозначение границ его семантического поля: например, нельзя переводить одним-единственным словом «щит» древнеанглийские bord, lind, rand, scyld. Вариации, звучание различных слов — это особенность стиля, которую следует в некоторой степени передать, даже если поэт пренебрег разницей в изначальных значениях или просто забыл о ней, — случаи, которые встречаются в древнеанглийской поэзии гораздо реже, чем принято считать. Но в тех случаях, когда в древнеанглийском языке выстраивается длинный ряд полных или частичных синонимов, чтобы обозначить понятия, которые были особенно важны для героической северной поэзии, — такие, как море, корабли, мечи и, особенно, люди (воины и мореплаватели), порой оказывается невозможно сопоставить богатство вариантов даже с самым общим набором слов. К слову «человек» в «Беовульфе» есть по крайней мере десять вполне уместных синонимов: beorn, ceorl, freca, guma, haeled и haele, leod, man и manna, rinc, secg, wer1. Этот список можно дополнить еще двадцатью пятью частичными синонимами, смысл которых более узок. Хотя в героических стихах они, как правило, могли заместить исходное mann. Например, слова, подразумевающие благородство рода, такие, как aedeling и eorl; указывающие на юный возраст молодых людей, такие, как cniht, hyse, maga, mecg, или обозначающее соратников, последователей и слуг лордов и королей: gaedeling, geneat, gesid, scealc, degn; или прямо определяющие «воина», такие, как cempa, oretta, wiga, wigend. Сборная солянка, вроде мужчина, воин, солдат, смертный, храбрец, благородный, юноша, мальчик, вассал, рыцарь, эсквайр, боец, простолюдин, герой, соратник, тип, создание, чемпион, парень, индивидуум, малый, не может соревноваться с этим списком ни по длине, ни по точности. В таком случае (это крайняя ситуация) нам придется удовлетвориться меньшим разнообразием — общее впечатление, вероятно, изменится не намного: для наших непривычных к подобным вещам ушей достаточно и этого. Однако нет никакой нужды притворяться беднее, чем мы есть, и избегать слов рыцарской эпохи. Говоря о доспехах и оружии, нам не обойтись без них, поскольку названия подобных вещей, ныне исчезнувших, дошли до нас сквозь Средние века или сохранились с тех самых пор. Нет причины избегать рыцарей, эсквайров, свит и принцев. Герои этих легенд были королями, членами рыцарских орденов, рыцарями Круглого Стола. Вызвать неуместные картины из мира короля Артура не так страшно, как переборщить с воинами и вождями, напоминающими гораздо более нелепые образы зулусов или краснокожих. Воображение автора «Беовульфа» уже вступило на порог христианского рыцарства, если на самом деле не проникло внутрь.
Перевод словосочетаний порождает другую проблему, о которой мы уже упоминали выше. Удовлетворительное решение редко приходит в результате перевода отдельных элементов с последующим их соединением: примером может служить перевод «кеннинга» или описательного словосочетания gleo-beam (2263), обозначающего арфу, выражением «веселое древо» или «радостное дерево». Brimclifu в строке 222 можно довольно точно перевести как «береговые скалы», но это редкая удача. Буквальный перевод (стр. 81—85):
|
Sele hlifade, heah ond horngeap, hea la p |
| 1 |
Дом возвышался,
рогами увенчанный, недолговечный, он будет предан пламени ярому, в распре меж старым тестем и зятем скоро нагрянули зло и убийство. — Пер. В. Тихомирова.
|
Ясно, что переводчик, сталкиваясь с подобными выражениями, должен сделать выбор между простым «называнием» обозначенной вещи (так, «арфа» в стр. 1065 gomen-wudu, — «играющее дерево») и превращением комбинации слов в формулу. Первый метод сохраняет компактность оригинала, но стирает его эмоциональную окраску; второй — даже если не искажает и не преувеличивает, тем не менее разрыхляет и ослабляет структуру текста. Выбор между этих двух зол должен зависеть от ситуации. Переводы могут отличаться в каких-то деталях, но основной принцип (если человек уважает современный английский так же, как древний) остается неизменным: решение в каждом случае должно быть найдено.
Словосочетания, встречающиеся в древнеанглийской поэзии, классифицируются по-разному, и решения не во всех случаях одинаковы. Некоторые слова весьма прозаичны и не несут в себе поэтической образности. Они встречаются как в стихах, так и в прозе, тогда перевод слова зависит от значения в целом. Совсем не обязательно раздумывать над словом mundbora1, если такие слова, как «защитник» или «покровитель», достаточно адекватно передают смысл понятия.
Более обширный промежуточный класс формируется теми словосочетаниями, при составлении которых действует естественный и живой механизм современного английского языка. Различие между поэтическим, прозаическим или разговорным употреблением основывается главным образом на том факте, что эти словосочетания более часто встречаются в стихах и создаются с большей свободой. Сами по себе — даже те, которые используются или, по крайней мере, записаны только в стихах, — они звучали для людей того времени так же естественно, как «табачная лавка» или «любитель чая» для нас. К этому классу относятся heals-beag («шейное украшение»1), bat-weard2 («страж ладьи»3) и hordwela («тайник с сокровищами»4) — три примера, которые (возможно, по чистой случайности) встречаются только в «Беовульфе». Ни один англосакс, прочитав или услышав их, не подумал бы, что эти словосочетания оригинальны, даже если раньше они ему и не попадались. Наш язык не утратил, даже будучи сильно ограниченным, привычки сопоставлять. Ни «шейное украшение», ни «лодка стражи» не занесены в Оксфордский словарь, но они безобидны, хотя «тайник сокровищ» сейчас звучит необычно. Это именно тот класс словосочетаний, для которого в современном английском фразеологические эквиваленты могут быть найдены или созданы с большой степенью свободы.
2 Boat-ward — северная форма batward. Была зафиксирована в хронике XV в., возможно, неологизм, не имеющий связей с древнеанглийским. — Прим. автора.
3 Стр. 1900 «Корабельный караульщик». — Пер. В. Тихомирова.
4 Стр. 2344 «клад курганный». — Пер. В. Тихомирова.
Однако, когда замысел становится более прихотливым или образным, когда предмет не просто называется, а описывается или воскрешается в памяти, словосочетание незаметно переходит в разряд поэтических: основное отличительное свойство древнеанглийской поэзии. Такие словосочетания, иногда называемые исландским словом «кеннинг» («описание»), предлагают частичное, часто опирающееся на воображение или прихотливое описание предмета, которое поэты используют вместо его обычного названия. В этих случаях, даже если кеннинг далеко не первой свежести и уже стал достоянием всех виршеплетов, замещение обозначаемого понятия в переводе, как правило, вовсе не оправдано. Ведь кеннинг рисует перед нами образ, нередко более прозрачный и понятный благодаря краткости, а не уводит во мглу сравнений.
Я назвал этот вид словосочетаний «поэтическим», потому что в создании фраз задействуется поэтическое мышление. Но подобные словосочетания встречаются не только в поэтических текстах — даже образные и необычные. Мы встречаем кеннинги и в обычном языке, хотя в процессе ассимиляции они, как правило, теряют оригинальность. Их уже не обязательно анализировать, даже если их форма затуманилась от времени. Нас не должны сбить с толку в оценке «живых» поэтических словосочетаний такие расхожие кеннинги, как прозаическая lichama — тело (стр. 2651) или hlafweard — хозяин. Действительно, lichama — «одеяние плоти», отделимое и отличимое от sawol, или «души», которая в него облачается, превратилось в обычное слово для обозначения тела. В более поздней форме licuma окрашивается налетом чувственности, заставляющий обратиться к первоначальному значению слова. Действительно, слово half-weard («хранитель хлеба») можно очень редко встретить в таком простом виде, обычно это понятие появляется как hlaford (откуда произошло наше полностью потерявшее корни слово «лорд»), превратившись в английском языке в обыкновенный синоним слов «лорд» или «владыка», часто без указания на щедрость главы рода. Но эта потеря значимости не характерна для большинства банальнейших кеннингов, которые используют поэты. Это несправедливо для swanrad (200), beadoleoma (1523), woruldcandel (1965), goldmine (1171), banhus (2508)1 и еще группы сходных понятий древнеанглийской поэзии. Если их и нельзя назвать свежими, то они все же сохранили значимость и чувство в той полноте или почти в той, как в то время, когда были впервые изобретены. Хотя lichama со временем выцвела до licuma, хотя ныне «нет ничего нового под солнцем», мы не должны думать, что ban-hus означает только «тело» или такое избитое выражение, как haeled under heofenum2, подразумевает «люди».
В переводе В. Г. Тихомирова предложены следующие аналоги: «лебединая песня», «луч сражений», «светоч небесный», «даритель сокровищ», «что хрустнули кости».
2 «Герои под небесами».
Тот, кто в те дни сказал и услышал flaeschama — «одеяние плоти», ban-hus — «чертог костей», herderlota — «тюрьма сердца», думал о душе, заключенной в теле, сравнивая ее с телом, закованным в броню, или с птицей в тесной клетке, или с паром, заключенным в котле. Там она бурлит и бьется в wylmas — «кипящих волнах», любимых поэтами древности, до тех пор пока не окажется освобожденной и не улетит на ellor-sid, в иные места, «о которых никто не сможет правдиво рассказать, ни лорды в своих дворцах, ни могучие воины под небом» (50—52). Поэт, который произносил эти слова, думал о храбрых мужах старины, идущих под сводом небес по острову земли (middangeard), опоясанному безбрежными морями (garsecg) и потусторонней тьмой, с суровой отвагой переносящих горестные дни жизни (loene lif, стр. 2845) до самого часа судьбы (metodsceaft, стр. 1180, 2815), когда все погибнет — leoht and lif samod1. Но он не проговаривает этого в полной мере или открытым текстом. Здесь и заключена безвозвратно потерянная магия древней английской поэзии для тех, у кого есть уши, чтобы слышать: глубокое чувство и проницательный взгляд, вобравшие красоту и тленность мира, пробуждаемые краткими фразами, легкими мазками, короткими словами, словно звенящие струны арфы под сильным щипком.
СЫНА БЮРХТЕЛЬМА
Отрывки
В августе 991 г., в правление короля Этельреда II, поблизости от Мэлдона, в Эссексе, состоялось сражение. Силы защитников Эссекса противостояли войску викингов, опустошивших Испуич. Англичанами командовал Бюрхнот, сын Бюрхтельма, герцога Эссекского, человек известный в те дни: могучий, бесстрашный и гордый. Он был. уже стар и дряхл, но деятелен и отважен, его белая голова возвышалась над остальными, ибо он отличался исключительным ростом1. Данов — а в данном случае это были по большей части норвежцы — вел на битву Анлаф, прославленный в истории и сагах Севера Олаф Трюгвассон, который позднее стал королем Норвегии2. Северяне поднялись к устью реки Панте, которое теперь называется Блэкуотер (Черная Вода), и стали лагерем на острове Норти. Таким образом, англичан и северян отделял друг от друга лишь рукав реки, наполнявшийся приливным течением. Его можно было перейти только по «мосту», или «дамбе», которая, учитывая твердость защитников, была неприступной3. Таким образом, оборона англов представлялась непоколебимой. Но викинги знали, с какими людьми им предстоит иметь дело, поэтому они попросили разрешить им перейти «дамбу», чтобы вступить в честное сражение на открытом месте. Бюрхнот принял вызов и разрешил им перебраться на берег. Этот гордый и рыцарский жест оказался пагубным. Бюрхнот был убит, англичане обращены в бегство. Но соратники герцога, его hear![]() werod, избранные рыцари и предводители его стражи, а также некоторые из его родственников сражались до последнего, покуда не пали замертво рядом со своим повелителем.
werod, избранные рыцари и предводители его стражи, а также некоторые из его родственников сражались до последнего, покуда не пали замертво рядом со своим повелителем.
2 Участие Олафа Трюгвассона в битве при Мэлдоне сейчас подвергается сомнению. Однако имя его было известно англичанам. Он уже бывал в Британии и снова оказался там в 994 г. — Прим. автора.
3 Согласно мнению Э. Д. Лаборда, ныне общепринятому, «дамба», или «брод», между Норти и берегом существуют и по сей день. — Прим. автора.
Сохранился фрагмент, причем весьма длинный, содержащий 325 строк, поэмы, написанной вскоре после этих событий: отсутствуют конец и начало, нет названия, но обычно о нем говорят как о «Битве при Мэлдоне». В нем рассказывается, что викинги запросили дань в обмен на соблюдение мира, о том, как Бюрхнот с гордостью отказался, о вызове, об обороне «моста», о коварном предложении викингов, о переходе через «дамбу», о последнем сражении Бюрхнота, о том, как изукрашенный золотом меч выпал из его искалеченной руки, о том, как язычники изрубили его тело. Заключительная часть фрагмента, почти половина сохранившихся строк, рассказывает о последнем сражении его дружины. В ней названы имена, поведано о деяниях и речах множества англичан.
Герцог Бюрхнот был защитником монахов, покровителем Церкви, в особенности аббатства Эли. После битвы игумен Эли заполучил его тело, и похоронил в своем монастыре. Голова герцога была отрублена, и обнаружить ее не удалось, в могилу на ее место положили шар из воска.
Согласно позднему и далекому от исторической достоверности рассказу «Liber Eliensis» («Книги аббатства Эли»), игумен вместе с несколькими монахами лично отправился на поле сражения. Однако из текста поэмы следует, что им удалось добраться только до Мэлдона, там они и оставались, послав вечером, уже после битвы, двух человек, слуг герцога, на поле брани, находившееся на порядочном расстоянии оттуда. Они взяли повозку, чтобы привезти тело Бюрхнота. Повозку оставили рядом с «дамбой», а сами принялись осматривать тела убитых, ибо немало людей полегло с обеих сторон. Торхтельм (в просторечии Тотта) — юноша, сын сказителя, в его голове полно историй о героях древнего Севера, о Финне, короле Фризии, о Фроде Гетобардском, Беовульфе, Хенгесте и Хорее, предводителях викингов-англов в дни правления Вортигерна (англичане называли его Вюртгеорном). Тидвальд (в просторечии Тида) — старый ceorl (грубый мужик), фермер, повидавший немало сражений. Ни один из них не принимал участия в битве. Оставив телегу, они потеряли друг друга в сгустившейся мгле. Ночь, темная и окутанная облаками, настигает Торхтельма в полном одиночестве как раз там, где высится гора мертвых тел.
Из древней поэмы почерпнуты гордые слова Оффы на совете перед сражением, имя отважного юноши Эльфвинэ (потомка древнего благородного мерсийского рода), чья храбрость заслужила одобрение Оффы, а также имена двух Вульфмеров: Вульфмера, сына сестры Бюрхнота, и Вульмера-младшего, сына Вульфстана, который вместе с Эльфнотом пал рядом с Бюрхнотом. В самом конце сохранившегося фрагмента старый ратник Бюрхтвольд, готовясь принять смерть в своем последнем сражении, произносит знаменитые слова, подытоживая весь героический кодекс, которые затем повторяются во сне Торхтельмом:
«По мере того как исчезает наша сила, мы должны становиться тверже, отважней сердцем, величественнее духом».
Мы предполагаем, и это вполне вероятно, что подобные слова не были оригинальными, они суть древняя и почитаемая идиома, воплощавшая в себе волю героев. Скорее всего, именно Бюрхтвольд, и никто иной, мог произнести ее накануне гибели.
Английская речь, раздающаяся в темноте вслед за словом «Derige!» («Направи!»), заключена в рифму — она предзнаменует закат древней поэтической традиции. Поэтический фрагмент бьи сложен свободным аллитерированным стихом, — и это самый поздний из дошедших до нас фрагментов древнеанглийского сказительства. [...] Рифмованные строки — эхо стихов о короле Кнуте, также сохранившихся в «Книге аббатства Эли»:
|
Merie sungen 'Rowe and here we ther muneches saeng'. По заслугам поют монахи, находящиеся внутри Эли, о делах, совершенных там правителем королем Кнутом. Гребите, воины, ближе к берегу, чтобы нам получше расслышать монахов пение. |
Скрип телеги затихает вдали. Какое-то время стоит полная тишина, постепенно начинают долетать звуки пения, и вскоре уже можно разобрать пусть и не четкие, но отдельные слова:
|
Направи, Господи, пути мои перед лицом Твоим, Дабы вошел я в жилище Твое: поклонился храму святому Твоему в страхе перед Тобою. |
Голос во тьме:
|
Грустную песню поют монахи с острова Эли. Гребите, мужи, гребите! Давайте немного послушаем! |
Пение становится громким и разборчивым. Появляются монахи, несущие гроб, окруженный свечами, проходят по сцене.
|
Направи, Господи, пути мои перед лицом Твоим, Дабы вошел я в жилище Твое: поклонился храму святому Твоему в страхе перед Тобою. Господи, направи меня в правде Своей, из-за врагов моих направи, Господи, пути мои перед лицом Твоим. Слава Отцу, и Сыну, и Духу Святому, и ныне, и присно, и во веки веков. Направи, Господи, пути мои перед лицом Твоим. Они уходят, и пение угасает в тиши... |
[...] Как я полагаю, чтобы этот отрывок мог заслуженно занять место в журнале «Эссе и исследования», он должен, само собою, включать критический анализ содержания и стиля древнеанглийской поэмы.
С этой точки зрения можно сказать, что я представил подробный комментарий к строкам 89—90: «...и тогда военачальник воскичился и предоставил врагу слишком много места, чего делать ему не следовало». Как правило, «Битву при Мэддоне» рассматривают как пространный комментарий, иллюстрирующий слова Бюрхтвольда (стр. 312—313), процитированные выше. Это самые знаменитые строки поэмы и, возможно, всей древнеанглийской поэзии. Но если оставить в стороне все совершенство, с которым выражена мысль, они кажутся мне куда менее интересными, чем строки, идущие перед ними. В любом случае только рассмотрение этих строк вместе позволяет в полной мере оценить всю мощь «Битвы при Мэлдоне».
Слова Бюрхтвольда считаются лучшим образцом, выражающим суть северного героического духа, как английского, так и скандинавского, свидетельством величайшей стойкости, с которой подчиняются необузданной воле. Поэма как целое была даже названа «единственной в полной мере героической поэмой на древнеанглийском». Действительно, доктрина представлена абсолютно ясно и четко, в особенности потому, что слова вложены в уста подданного, человека, для которого объект приложения его собственной воли определяется другим, не несущим никакой ответственности по отношению к своим подчиненным, но требующим от них по отношению к себе демонстрации полной преданности. Поэтому личная гордость самого подданного проявляется в наименьшей степени, а любовь и преданность — в наибольшей.
«Северный героический дух» никогда не встречается в самородном виде, это золото, содержащее примеси. И если высшей пробы, то при необходимости придает человеку непоколебимость перед лицом смерти, в особенности в том случае, когда смерть является средством, помогающим осуществить чью-либо волю, или когда жизнь можно сохранить, только предав свои устои. Но поскольку подобное поведение достойно восхищения, примеси личной гордости никак невозможно избежать. Так, Леофсун не поступается своей преданностью из страха перед тем бесчестьем, которое он навлечет на себя, вернувшись домой живым. Конечно, этот мотив коррелирует с категорией «совести»: самооценка с точки зрения соратников, с которой сам герой соглашается в полной мере, — он поступил бы точно так же, не будь свидетелей вовсе1. И все же элемент гордости, проявляющийся в стремлении к почету и славе как в жизни, так и после смерти, становится все более значимым, приобретает решающую роль, заводит мужчину куда дальше, чем гнетущее героическое стремление к чрезмерности, к рыцарству. «Чрезмерность» определенно могла заслужить одобрение в глазах современников только в том случае, если она не шла вразрез с обязанностью и необходимостью, но сочеталась с ними.
Так, Беовульф (согласно мотивации, приписанной ему тем самым знатоком героического и рыцарского поведения, который сложил о нем поэму) совершает больше, чем необходимо, отказываясь воспользоваться оружием, чтобы превратить битву с Гренделем в состязание. Именно это должно приумножить его личную славу, хотя это же и подвергает его ненужной опасности и умаляет шансы избавить данов от нестерпимого бедствия. Однако Беовульф не несет перед данами никаких обязательств. Он все еще подданный, не имеющий никаких обязанностей по отношению к нижестоящим. Его слава приносит почет его стороне, гаутам. Превыше всего, как он сам говорит, она послужит его повелителю Хигелаку. Беовульфу так и не удается избавиться от своего рыцарства — «чрезмерность» присутствует даже в ту пору, когда он становится старым королем, на которого возлагаются все надежды народа. Он не станет снисходить до того, чтобы повести войско против дракона, хотя мудрость могла подсказать подобное решение даже герою. А все потому, как излагает он в пространной хвалебной речи самому себе, что многочисленные победы избавили его от страха. В этом случае он разве что воспользуется мечом, поскольку сражаться с драконом врукопашную — дело безнадежное даже для героического духа. Но он оставляет позади двенадцать своих спутников. Спасение от поражения, равно как и конкретная цель — убийство дракона, достигаются только благодаря преданности его подданного. В противном случае рыцарское поведение Беовульфа увенчалось бы не чем иным, как его бесполезной смертью, а дракон мог бы остаться на свободе. Выходит, подданный подвергается куда большей опасности, чем в этом есть необходимость, и, хотя он не расплачивается за mod (славу) хозяина жизнью, люди теряют своего короля самым пагубным для себя образом.
В «Беовульфе» легенда о «чрезмерности» представлена в самом общем виде, в случае с Бюрхнотом она выписана как сюжет еще более определенно. Кроме того, она почерпнута из реальной жизни
Почему Бюрхнот поступил так? Вне всяких сомнений, это был изъян характера, но характера, как мы можем предполагать, не только врожденного, но и вылепленного «благородной традицией», взлелеянного преданиями и песнями поэтов, от которых осталось теперь только эхо. Бюрхнот вел себя скорее рыцарски, чем героически. Почет сам по себе является мотивом, и он стремился к нему, подвергая опасности свою дружину, всех людей, которые были ему особенно дороги, в действительно героической ситуации, где стяжать почет они могли только ценою собственной смерти. Возможно, величественно, но определенно неверно. Слишком глупо, чтоб стать героическим. И глупость Бюрхнота ни в коей мере не может быть полностью искуплена его смертью.
Это признается автором «Битвы при Мэлдоне», хотя строки, в которых излагается подобная точка зрения, мало ценились или преумалялись в своем значении. Приведенный выше перевод, на мой взгляд, точен в передаче мощи и смысла слов, хотя большинство знакомо с переводом, предложенным У. П. Кером: «...и тогда повелитель неосмотрительно отдал слишком много земли презренным людям» («...then the lord in his overboldness granted ground too much to the hateful people»)1. Это строки самой суровой критики, хотя они могут быть совместимы с выражением преданности и даже любви. Хвалебные песни на похоронах Бюрхнота могли слагаться по образу и подобию плача двенадцати воинов по Беовульфу, и они также могли заканчиваться грозным замечанием, пригвожденным последним словом великой поэмы — lofgeornost — «жаждущий превыше всего славы вековечной».
В сохранившемся фрагменте «Битвы при Мэлдоне» автор не разрабатывает мысль, высказанную в строках 89—90, хотя, если бы в поэме присутствовали кольцевая концовка и финальное суждение (а это наиболее вероятно, поскольку поэма сложена без поспешности), эта мысль обрела бы свое итоговое выражение. Если поэт вообще почувствовал необходимость критиковать и обозначить свое осуждение, то попытке изобразить действия дружины не хватает резкости и трагической глубины, к которым он стремился. Мотив преданности свиты делает его критический взгляд куда богаче. Их долг противостоять и умереть, а не задавать вопросы. Слагавший поэму мог бы отметить, что кое-кто допустил грубейшую ошибку. В их ситуации героизм был самой высшей пробы. Их долг не пострадал от ошибки предводителя, и (что еще мучительнее) в сердцах тех, кто стоял бок о бок со стариком, не стало меньше любви. Героизм повиновения и любви, а не гордости и умысла вдохновляет и Виглафа под щитом родича, и Бюрхтвольда под Мэлдоном и под Балаклавой, даже если последние события описаны в стихах вроде «Атака легкого эскадрона»1.
Бюрхнот был неправ, и он погиб из-за своей глупости. Это была благородная ошибка, или ошибка благородного человека. Дружине не следовало его упрекать, возможно, многие не сочли его достойным порицания, поскольку сами обладали характером рыцарским и благородным. Но поэты как таковые находятся выше рыцарства и даже выше героизма, и если они в какой-то степени затрагивают эти темы, то даже подобные «состояния», вопреки самим себе, и объекты, к которым эти состояния прилагаются, должны подвергаться исследованию.
Перед нами произведения двух поэтов, которые углубляются в рассмотрение рыцарского и героического как в деяниях, так и в мыслях древних времен: один в самом начале «Беовульфа», другой — в финале «Сэра Гавейна». Возможно, третий, оказывающийся практически посередине, в «Битве при Мэлдоне» — если бы только его поэма дошла до нас целиком. Нет ничего странного в том, что рассмотрение одного из этих произведений приводит нас к другому. «Сэр Гавейн» — самое позднее и наиболее сознательное, оно прямо предполагает критический анализ всего кода чувств и поведения, в котором героическая храбрость является лишь одной из составляющих, поскольку обнаруживается сразу несколько преданностей, которые надо хранить. Кроме того, эта поэма во многих глубинных аспектах подобна «Беовульфу», куда как более глубинных, чем сам факт использования аллитеративного1 размера, который тем не менее является значимым. Сэр Гавейн, как представитель рыцарства, выведен весьма озабоченным своей славой, и, хотя вещи, которые воспринимаются как славные, преображаются и разрастаются в размерах, преданность слову и верность, равно как и твердое мужество, остаются на прежнем месте. Они подвергаются проверке во время приключений, которые походят на обычную жизнь ничем не более, чем сражения с Гренделем или драконом. Но поведение Гавейна куда почетнее, и этот почет только усиливается тем, что Гавейн выступает в роли подданного. Он подвергается опасности и угрозе смерти только из-за своей преданности и стремления сохранить безопасность и достоинство своего повелителя, короля Артура. Во время приключения именно на него ложится ответственность за славу его лорда и его дружины, воиноа Круглого Стола. Вовсе не случайно, что в этой поэме, так же как в «Битве при Мэлдоне» и «Беовульфе», мы обнаруживаем критику повелителя, по отношению к которому следует хранить вассальную преданность. Слова впечатляют, хотя несколько меньше, чем та незначительная роль, которую они сыграли в деле изучения поэмы (случай аналогичный «Битве при Мэлдоне»). Вот что говорили при Дворе о короле Артуре, когда сэр Гавейн ускакал прочь:
|
«Как жаль, сэр, что такой печальный удел Ждет рыцаря, равных которому не найти» «Ах, сэр, разумнее было бы, если б Король его пожаловал герцогским титулом». «Он, верно, вождем выдающимся стал бы, Достойней была бы судьба такая, Чем злая смерть, что его ожидает». «Ну да! Ни за что головы лишиться, Причем от какого-то нечеловеческого существа!» «И, Господи, прости, только в силу гордыни!» «Ну кто когда слышал о короле, который Всерьез бы принял дурацкое предложение, Высказанное рыцарем в Новогодний вечер!» Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь
(Пер. В. П. Бетаки) |
«Беовульф» — богатая поэма, описание смерти героя складывается из множества составляющих, изложенное (вкратце) выше изменение восприятия роли рыцарского поведения и ответственности от юных лет к старости является только одной из них. Однако оно отчетливо присутствует в тексте, и, хотя авторское воображение двигалось путями более широкими, оно выразило себя и в критике повелителя, того, кто держит в своих руках узы преданности.
И хотя повелитель стяжает честь деяниями своих воинов, он не должен использовать их верность или подвергать их опасности только во имя этого. Хигелак не посылал Беовульфа в Данию из хвастовства или необдуманного обета. Его слова, обращенные к Беовульфу по возвращении, вне всяких сомнений, являются дополнением, внесенным в первоначальную версию текста, которая проглядывает в строках 202—204 сквозь ободрение со стороны snotere ceorlas (благоразумных мужей). Из строк 1992—1997 мы узнаем, что Хигелак хотел удержать Беовульфа от опасного приключения. И должным образом. В финале ситуация ровно обратная. Виглаф и гауты считали любое нападение на дракона безрассудным и попытались удержать короля от этого предприятия, используя слова (строки 3076—3083) — весьма похожие на те, что пустил в ход Хигелак. Но король желал славы или славной смерти и навлек несчастье. Вряд ли можно подобрать более острые выражения для немногословной критики «рыцарства» того, на ком лежит бремя ответственности, чем восклицание Виглафа: «Oft sceall eorl monig ones willan wr![]() c adreogan». — «По воле одного человека множество подвергнется беде». Эти слова поэт, написавший «Битву при Мэлдоне», мог бы сделать эпиграфом своего произведения.
c adreogan». — «По воле одного человека множество подвергнется беде». Эти слова поэт, написавший «Битву при Мэлдоне», мог бы сделать эпиграфом своего произведения.
ПОСЛЕСЛОВИЕ1
Читая «Чудовищ и литературоведов», сегодня необходимо сделать некоторые допущения: Дж. Р. Р. Толкин выступал со своей лекцией в 1936 г., когда теория формульного происхождения эпоса находилась в стадии полевой разработки. Поэтому слова «сказитель», «автор», «поэт» выступают у него как синонимы. Профессор Дж. Р. Р. Толкин, вне всяких сомнений, считал, что у «Беовульфа» были свой автор и рукопись-протограф, в которой изначальная версия этого произведения была записана. Стоит привлечь внимание читателей к следующему обстоятельству: все положения, которые Дж Р. Р. Толкин характеризует как бесспорные и доказанные, на сегодняшний день уже не считаются столь незыблемыми, во многих случаях обнаружились как раз факты, говорящие об обратном. Поскольку понятие «формула» еще не было введено в научный оборот, Дж Р. Р. Толкин постоянно говорит о разного рода эпитетах, что в какой-то степени запутывает читателя. Это нам сегодня известно, что эпическое произведение не заучивается наизусть, а слагается на заданный или уже известный сюжет каждый раз в процессе декламации с помощью «формул», ритмических элементов, которые, соединяясь друг с другом, складываются в строки. Поэтому сказитель помнит не поэму, былину или героическую песню, а формулы, из которых он каждый вечер складывает свой рассказ заново.
Теория, сформулированная Милманом Пери и A.Б. Лордом, нашла полное подтверждение на материале гомеровского эпоса, русских былин Севера, сербо-хорватских песен и древнеанглийской поэзии. Поэтому совпадение иди похожесть строк разных произведений (в предисловии к «Исходу» сам Дж. Р. Р. Толкин приводит целый ряд подобных примеров, сравнивая древнеанглийскую поэму «Исход» с текстом «Беовульфа») обусловлены использованием одних и тех же формул разными сказителями. Как уже отмечалось выше, даже один и тот же сказитель не может повторить одну и ту же песнь дважды в неизменном виде, каждый раз он сочиняет ее заново. Поэтому и записать можно один-единственный раз, поскольку каждое исполнение уникально. Дальше возникает вполне оправданный вопрос: какова была судьба этих записей? Нам хорошо известно, что текст «Беовульфа» переписан руками двух людей, сначала писал человек постарше, затем — помоложе. Исследования последних десятилетий показывают, что старший был знаком с эпической традицией и, вне всяких сомнений, произносил записываемый текст. Исполнение, как уже было сказано, и есть создание: по крайней мере, первая часть поэмы относится к тому времени, когда она была записана на пергаменте неизвестным дыне пожилым человеком. Расширение, дополнение, переделки и перестановки не представляли для того, в чьей голове укоренились эпические формулы, никакого труда (для него это было столь же естественным, сколь говорить, не приходилось ни ломать голову над аллитерациями, ни подсчитывать слоги на пальцах). Другое дело, строки, записанные младшей рукой, изобилующие описками, перестановками слов и так далее. Вполне вероятно, перед этим писцом был прототип, но до какой степени прототип письменный, этого нам узнать не дано. Большинство загадок, над которыми ученые ломали головы на протяжении весьма долгого времени, с появлением формульной теории и применением ее к древнеанглийской поэзии разрешились сами собой. Элегические отрывки и «вставные» песни, отходящие от главного сюжета, стали вполне естественными отступлениями, характерными для сказителей всех народов. («Что вижу, про то пою» — вообще-то говоря, не столь уж плоская формула). Древнеанглийская поэзия, насквозь, а это показали исследования, формульная, в то же время никогда не была языческой. Первое из записанных древнеанглийских стихотворений — «Гимн Кэдмона» — христианское, как и более поздние примеры. Дж. Р. Р. Толкин попытался донести это до своих слушателей, подобрав очень емкий образ поэта-христианина, рассказывающего о временах языческого прошлого. Формулы, и это следовало бы подчеркнуть особо, могут вкладываться в уста и положительных, и отрицательных персонажей. Если нас не смущает сарацин, говорящий в «Песне о Роланде» о гонце, прибывшем из «милой Франции» (какая она ему милая!), то почему мы должны с большей настороженностью относиться к упоминанию о том, как сказитель в Хеороте заводит песнь о Сотворении мира. Отечественного читателя лучше всего адресовать к былинам, пусть попробует проверить их с точки зрения логики, да еще, как говорил сам профессор Толкин, не ориентируясь по номерам строк и знакам препинания. В древнеанглийской письменной традиции не сохранилось никакой иной эпической поэзии, кроме христианской. Вообще-то, крайне опасно, и об этом опять же напоминает Дж. Р. Р. Толкин своей аудитории, подходить к вещам одного порядка с разными стандартами, разграничивая их между собой по значимости. Дело не в том, что поэмы «Бытие», «Исход» и «Даниил» испытали (или оказали) влияние на «Беовульфа». Просто для описания одних и тех же ситуаций, вне зависимости от общего контекста, подходил один и тот же набор формул, и именно эти формулы, само собою, были пушены в ход сказителями. Никто не сомневается в роли волка, помогшего Отыскать голову святого, но Грендель во тьме, снаружи, и песнь сказителя о Сотворении мира внутри почему-то должны казаться для нас неразрешимым противоречием.
Поэма вовсе не должна отражать историю, «как оно было». Чтобы соотнести эпоху Беовульфа с событиями «Темных веков», нам вполне достаточно скупого рассказа историописателя франков Григория Турского (ум. в 593 или 594 г.) о последнем (и неудачном) походе его покровителя короля Хигелака: «В это самое время даны вместе со своим королем Хигелаком [Chlochilaichum], снарядив корабли, по морю отправились в Галлию. Выйдя на берег, они разорили и захватили одну из областей короля Теодориха и, погрузив на корабли пленников заодно с добычей, приготовились отплыть на родину. Но их король оставался на берегу до тех пор, покуда корабли не вышли в открытое море, — только потом он собирался последовать за ними. Когда об этом стало известно Теодориху, а именно о том, что его королевство было разорено чужестранцами, он отправил в те земли своего сына Теодоберта, поручив ему могучее и хорошо вооруженное войско. И он, убив короля и одержав победу в морском сражении, поймал врагов и вернул все награбленное на сушу» («История франков», III, 3, — дело произошло вскоре после смерти короля Хлодвига, т. е. после 511 г.). И никого не смущает, что эпическая картина этого поражения стирает практически все конкретные детали:
|
Гаутский Хигелак, внук Свертинга, тем даром Вальхтеов, кольцом был украшен, в последней битве, где защищал он свою добычу, стоя под стягом, — войнолюбивца Судьба настигла в пределах фризских. надев на шею то украшение, пришел за море дружиноначальник, но пал под щитами, и с телом вместе убор нагрудный достался франкам, и это сокровище также стало поживой слабейших врагов на поле, где многих гаутов смерть похитила. Пер. В. Тихомирова
|
Вздыхая о не дошедших до нас языческих сказаниях и героических песнях, стоило бы задуматься о том, почему они до нас не дошли. Древнеанглийская поэзия — насколько глубоко простираются наши познания — появилась при весьма чудесных обстоятельствах в Нортумбрии, королевстве на севере Англии, и была связана с обителями Уитби и Ярроу. В Уитби жил знаменитый Кэдмон, в Ярроу вырос, творил и умер Беда Достопочтенный. Именно Беда, или кто-то из его учеников, на полях «Церковной истории англов» записал древнеанглийский текст «Гимна Кэдмона» (пьяный Кэдмон, никаких песен слагать не умевший, отправляется спать в хлев, ночью во сне ему является ангел, говорящий: «Пой о чудесах Творения, о том, откуда пошли земля и небеса» — Кэдмон поет, самое удивительное, что наутро он еще помнит текст сложенной песни и даже декламирует его игуменье). Второе по старшинству произведение поэзии — предсмертная песнь самого Беды, помещенная его учеником Кутбертом в послание архиепископу Бонифацию. Эти два поэтических отрывка выросли (в прямом смысле) за монастырскими стенами. Если бы Беда и Кутберт не попытались записать известные им строки, сохранилась бы древнеанглийская поэзия вообще? И уж коли она дошла до нас, то почему «Беовульф», а не какие-либо иные предположительно существовавшие героические песни?
Ответ необходимо искать, как того и желал бы от своих студентов профессор Толкин, в контексте. «Беовульф» был записан в той же самой рукописи, что и три прозаических произведения, древнеанглийские переводы жития святого Христофора (сохранился только отрывок, без начала), трактат под названием «Чудеса Востока» и «Послание Александра Аристотелю о чудесах Индии». Именно за «Посланием...» следовал «Беовульф», а за ним еще один поэтический отрывок — «Юдифь». Таким образом, все лучшее, что, по нашим сведениям, могло быть известно человеку X — начала XI вв. о чудовищах и великанах, собралось в этой рукописи. Огромный рост и неимоверная сила святого Христофора, которого нередко изображали с песьей головой (присутствовал ли этот мотив в данном случае, остается неизвестным, поскольку начальная часть жития утеряна), фантастические «панотии», способные завернуться в свои уши, безголовые «блемнии», с глазами и ртом на груди, «двухголовые», «змееногие» и так далее. Беовульф оказался в подходящей компании, ведь главному герою приходилось сражаться с Гренделем, его матерью и, наконец, с драконом. Самое очевидное объяснение является, скорее всего, и наиболее правдоподобным. Переписчик решил иллюстрировать собранные им истории святого Христофора и Александра Македонского, а также рассказы о чудовищах «доморощенным» материалом, вот так появился в составе рукописи «Беовульф». Причем сам составитель манускрипта не довел работу до конца, а записал лишь первую часть поэмы — 1935 строк, передав завершение дела более молодому писцу. Этот второй дописал оставшийся кусок «Беовульфа» (поначалу не очень тщательно), а затем, следуя уже собственной логике, прибавил к сборнику «Юдифь» (причем эту поэму он скопировал весьма прилежно). Итак, в первой части, на которую приходится история Гренделя, мы вполне можем предположить дополнения и изменения, что же касается завершающих 1247 строк, то последние исследования выявили следующий факт: второй писец стер несколько строк по ходу дела, чтобы связать начальную и заключительную части поэмы. Таким образом, два эпизода жизни Беовульфа были соединены благодаря совместной работе двух людей.
«Юдифь» — сколь бы циничным ни показалось такое суждение — тоже присутствует в сборнике не случайно. Между гибелью Беовульфа и Олоферна много общего: оба герои и прославленные воины, оба умирают именно в тот момент, когда они более всего нужны своему народу. Утренняя сцена, разыгрывающаяся в «Юдифи», — солдаты, которых теснит неприятель, окружили палатку своего полководца, несмотря на бой, ни один не смеет потревожить сон великого воина, вот сейчас он проснется, и победа снова окажется в руках ассирийцев, но ничего не происходит, и наконец один из воинов, самый отважный, решается войти внутрь, взглянуть на подушки, где лежит обезглавленный труп. Слава Юдифи и горе армии ассирийцев. С другой стороны, меч, вонзаемый Юдифью в шею Олоферна, можно уподобить мечу, который вонзает дружинник, «знатный родом» (то есть Виглаф), в глотку дракона (это не случайное наблюдение, ибо в древнеанглийской поэзии голову отрубают нередко, но описание процесса вхождения острия меча в сочленение головы и тела на протяжении нескольких строк — явление выдающееся). Еще одна примечательная деталь: Юдифь отправляется на свой подвиг в сопровождении девушки-служанки, которой предстоит тащить сумку с отрубленной головой Олоферна на обратном пути, — в сражении со злом помощник просто необходим.
Следует в полной мере сознавать, что без чудовищ и диковин Востока, представленных в «Послании Александра Аристотелю», «Беовульф» никогда бы не сохранился. Совпадение? Едва ли, ведь в латинской «Книге о зверях и чудовищах», написанной одновременно, а может быть даже раньше «Беовульфа», упоминается о гигантских размерах тела короля Хигелака (дяди Беовульфа) «Существовали чудовища удивительной величины, как, например, король Хигелак, который правил готами и был убит франками. Ему не исполнилось двенадцати, а под ним уже сгибалась лошадь. Его кости сохранились до сих пор на острове, расположенном посреди реки Рейн: там, где она впадает в Океан, скелет этот можно увидеть издалека, и его показывают как чудо». Предания о великанах древности были подхвачены авторами Средневековья, и Энциклопедист Фома из Кантимпрэ писал: «Согласно сообщениям Лукана и многих других, в Тевтонии когда-то обитало множество гигантов, и страна эта названа по имени огромного гиганта Тевтона Тевтония. Отсюда и Лукан: «Умилостивили кровью Тевтана». Некоторые утверждают, что его могила находится рядом с Дунаем, в имении святого Стефана, в двух милях от Вены в Австрии, и что в длину она достигает девяноста пяти футов. И там можно увидеть кости невообразимых размеров. Утверждается, что у него был такой огромный череп, что если кто-нибудь возьмет в руку два меча и, просунув их в глазницу, примется вертеть ими внутри, то за своды черепа зацепиться не сможет. Зубы у него в ширину побольше ладоней. Правдивость всего этого тебе доподлинно подтвердят в австрийском городе Вене» (О природе вещей, III, 40).
Кроме того, одним из главных источников, который послужил автору «Книги о зверях и чудовищах», является «Послание индийского царя Фарасмана императору Адриану» — латинский прототип древнеанглийской «Книги чудес», помещенной в одной рукописи с «Беовульфом». Наводит на размышление еще одно совпадение. Драконы в средневековой литературе встречаются, вопреки общепринятому мнению, не так уж часто. Хорошего дракона, на это указывает и сам Дж. Р. Р. Толкин, поди отыщи. Зато поединок Беовульфа с драконом весьма напоминает рассказ о сражении Александра Македонского с василиском (главную роль играет огромный щит, который защищает героя от взгляда и тлетворного дыхания чудища). Кроме того, северные драконы проходили по разряду «змеев» или «червей» (именно этими словами их, как правило, называли), что сближает их с василиском — второй по величине из змей согласно классификации епископа-энциклопедиста Исидора Севильского. Между «Беовульфом» и чудовищами было настолько много общего, что последние волей-неволей приложили усилия к сохранению эпического предания.
А если бы не чудовища? В эпоху Раннего Средневековья еще не существовало литературных средств для сохранения сюжетов. Эпическая песнь могла либо оказаться записанной целиком, либо исчезнуть вовсе. «Видсид» — поэма, которую иногда считают отражением репертуара сказителя, упоминает имена и народы, но не сюжеты. За монастырскими стенами героическими песнями интересовались мало: эксетерская рукопись, сохранившая для нас не только поэму «Видсид», но и «Деор», «Морестранник», «Физиолог» и множество других поэтических произведений, использовалась, как известно, на кухне в качестве доски для резки хлеба. Чтобы сберечь сюжет, нужно суметь его пересказать. Но кто этим займется? Епископ Фульгенций был представителем позднеантичной литературы, мифы, пересказанные им с завидной лаконичностью, находились в русле римской мифографии. Он опирался на давнюю традицию и сумел передать ее Средневековью. Но потребовалось привить к дереву латинской словесности черенок пришедшей из Испании учености, чтобы появились новеллы как таковые (в начале XII в. это было проделано в книге «Наставления клирикам» Петра Альфонсина) — краткие рассказы, в которых самым главным является именно сюжет, пусть и приправленный морализующей развязкой. Ранее этого времени мы можем полагаться только на прозаические хроники, где сухой перечень лет иногда сдабривался поэтическими отрывками (как в «Англосаксонской хронике») или связными и неплохо оформленными рассказами («Хроника Фредегара» и «История лангобардов» Павла Дьякона). На Севере оба приема были использованы в конце XII в. Саксоном Грамматиком, автором «Истории датчан». Но Саксон Грамматик — литератор, несомненно умевший чувствовать и подхватывать сюжет, что делала бы современная драматургия без поведанной им истории Гамлета? Опыт «Истории датчан» во многом уникальный, недаром именно оттуда пришло имя Фродо, главного героя «Властелина колец». Тем, кто вздыхает по утерянным героическим песням Севера, не лишним будет напомнить, что от всего эпического цикла древних греков мы имеем «Илиаду», «Одиссею», а также краткое изложение остальных сюжетов по «Хрестоматии» Прокла. И это не обесценивает значимости дошедших до нас поэм. Дж. Р. Р. Толкин настаивает, что элегические отрывки, сохранившиеся в составе «Беовульфа», только подчеркивают величие главной сюжетной линии повествования, изображающей героя в противостоянии абсолютизированному злу: Гренделю, матери Гренделя и дракону.
О существовании Гренделя нам известно из семи земельных актов VIII—X вв., где фигурируют топонимы вроде «Гренделева берлога», «Гренделево болото», «Гренделев кряж» и «Гренделевы врата». Как верно подметил Дж. Р. Р. Толкин, дракон — существо, встречающееся в средневековой литературе не так уж часто. При мысли о единоборстве с драконом на память приходит юноша, изображенный Пизанелло, он кажется почти незаметным рядом с огромным крупом лошади. Все его внимание приковано к только что спасенной принцессе. Св. Георгии выглядит на фреске усталым после тяжелого сражения и нелегко доставшейся победы. Яков Ворагинский, знаменитый агиограф XIII в. и автор «Золотой легенды», описывал этот поединок так: «Георгий вскочил на коня, осенил себя крестным знамением, смело бросился вперед навстречу дракону, взмахнул с силой своим копьем и, посвятив себя Господу, проткнул дракона и поверг его наземь». Именно благодаря «Золотой легенде» средневековый читатель узнал об этой прославленной битве, оказавшей влияние на европейскую литературу и иконографию. Когда боландисты стали разбираться в преданиях о св. Георгии, выяснилось, что Яков Ворагинский и был тем человеком, воображение которого заставило святого вступить в битву со змием. В греческих и поздних латинских текстах Георгий усмирял дракона, осеняя его крестным знамением. Именно в этой версии предание попало и на Русь, где оно известно в переводе XI в. Так значит, св. Георгий не воевал со змием, а обошелся одним трюком? Вообще-то Георгий неоригинален в этом. Подобным образом поступали Персей (воспользовавшийся головой Медузы Горгоны), а также пророк Даниил (метнувший в пасть змию комок войлока — об этом рассказывается в XIV, неканонической главе «Книги Даниила», известной читающей публике Средневековья по переводу святого Иеронима). Нелишним будет напомнить, что на Востоке, где сюжет о драконе и Данииле выпадает из текстов Святого Писания, распространяется предание о том, как дракона победил сам Александр Македонский: «На большом и благоустроенном острове Дракон высятся поросшие деревьями горы. Здесь есть крепость, окруженная высокими стенами. Сказывают, что каждый день на острове появлялся огромных размеров дракон, поедавший скот островитян. Тогда население острова призвало на помощь Александра Македонского, потому что не под силу им было совладать с драконом. Каждый день островитяне приводили в определенное место двух буйволов и оставляли на съедение дракону. Как черное облако, с глазами, метавшими молнии, и пастью, изрыгавшей пламя, появлялся дракон, чтобы всякий раз проглотить буйволов и вернуться в море. Услышав об этом, Александр приказал доставить двух буйволов, содрать с них шкуры и набить смолой, серой, известью и мышьяком. В содержимое запрятали железные крюки и положили муляжи на берегу, где появлялось чудище. И вот показался дракон и проглотил шкуры буйволов с этой начинкой. Через некоторое время его внутренности стали гореть от смеси, а крюки впились в его внутренние органы так, что он сбежал. На следующий день люди не увидели больше дракона и решили пойти по его следам. Потом они нашли его подохшим, с широко раскрытой пастью. Обрадовались островитяне и в знак благодарности за помощь преподнесли Александру удивительные дары, и в том числе животное, похожее на желтого зайца с черным ртом на голове. По рассказам, все звери спасаются от него бегством, чтобы не погибнуть. Впрочем, Аллах его знает»1. Так излагает это предание космограф XIII в. Закарийа
Сражаться с драконом — дело совсем иное. Кроме Беовульфа, как отмечает Дж. Р. Р. Толкин, на этом поприще отличился разве что Сигурд, герой преданий о Вёльсунгах, или король датчан Фроди I (о нем рассказывает уже упоминавшийся Саксон Грамматик. «Деяния датчан», кн. II, 1—3). Имеются различия: для Фроди и Сигурда поединок со змеем — подвиг, с которого начинается их героическая жизнь и благодаря которому добывается необходимое для предводителя дружины золото (у Фроди это вообще первое приключение, Сигурд решает сначала отомстить за отца и лишь потом вступить в поединок с Фафниром). Сокровища достаются всем троим: и Беовульфу, и Фроди, и Сигурду. Но для Беовульфа это — последнее событие в жизни, венчающее его героическую биографию; пытаясь остановить дракона, он руководствуется мотивами, которые ближе Александру Македонскому, чем северным героям. Так, Фроди отправляется на остров, расположенный посреди топей дракона, в одиночку (чтоб чудищу было меньше славы, именно так утверждает Саксон Грамматик). Змей, встреча с которым выпала на долю Фроди, был ужасен: язык трезубцем, ядовитое дыхание, извергающееся из пасти, тело, которое кольцами обвивало холм, где находились сокровища. И вот, когда змей возвращался с водопоя обратно в пещеру, Фроди, отбросив страх, предпринял нападение и шарахнул дракона под пузо острым железным орудием с шипами. Чудище попыталось освободиться от поранившего предмета, но шипы проникали все глубже и глубже в мягкие ткани утробы. И тогда дракон решил хоть укусить Фроди в отместку, но нарвался на его щит, сделанный из бычьих шкур, о который сломалось жало, расположенное в пасти. Затем чудище стало раз за разом высовывать наружу свой ядовитый язык и постепенно рассталось и с силами, и с жизнью. А вот полученные сокровища сделали Фроди богатым1, и он отправился покорять Курляндию и Русь.
История Фроди, несмотря на некоторую изысканность пересказа Саксона Грамматика, оставляет впечатление, что молодой король отобрал сокровища не то у кита, не то у моржа. Во всяком случае, хитрость, к которой он прибег, весьма напоминает рассказ о китовой охоте, донесенный до нас энциклопедистом Фомой из Кантимпрэ (XIII в.): «Вот как ловят китов. По достижении трехлетнего возраста кит совокупляется с самкой. Вскоре в ходе совокупления сокращается сила его полового органа, так что он уже совокупляться больше не может и отправляется в открытое море настолько далеко, что людям его уже поймать не по силам. А на протяжении трех лет жизни его можно поймать, как сказано в «Книге вещей», следующим образом. Рыбаки, обнаружив место, где находится кит, собираются вокруг на множестве судов и начинают играть на свирелях и трубах, чем привлекают его к себе, ибо его очень радуют подобные звуки. Когда рыбаки видят, что кит приблизился к судам, привлеченный звуками, они исподтишка запускают в его спину специально заготовленные орудия наподобие железных носов с острыми зубцами и исподтишка же отступают. И тут же, если орудие нанесло киту рану, кит опускается на дно моря и, переворачиваясь на спину, трется об землю, от чего железо проникает еще глубже и, проткнув жир, добирается до мяса, а вслед за железом в раны попадает соленая вода. Так кит погибает от ран. И вот мертвый кит всплывает на поверхность моря, после чего рыбаки возвращаются, оплетают мертвую тушу веревками и тащат его на берег, весьма радуясь подобной добыче».
Еще один датчанин, Фридлев, «возвращаясь из дальнего плавания, оказался на берегу неведомого острова. Ночью во время сна некто надоумил его, как добыть сокровища, которые зарыты в тех местах, и как, укрывшись бычьей шкурой, напасть на дракона, который эти сокровища охраняет, и как защититься от ядовитых клыков, натянув шкуру на свой щит. Поэтому, чтобы проверить, правда ли то, о чем было сказано ему в видении, Фридлев напал на змея, когда тот появился из воды, и долгое время метал копья в его покрытую чешуей спину, но напрасно, ибо его прочное и костлявое тело сокрушало их наконечники. А змей, извиваясь кольцами, вырывал деревья, подцепляя их своим хвостом, более того, разметал землю под собой настолько, что снизу обнажились скалы, а по обе стороны выросли два отвесных обрыва — так, словно долина врезалась между холмами. И вот Фридлев, увидев, что сверху ему чудовище не одолеть, изловчился, вонзил ему меч в пах и выпустил из трепещущего тела зловонную жижу. Когда змей был мертв, Фридлев откопал подземные сокровища и позаботился о том, чтобы перенести их на свои корабли» (Саксон Грамматик. «Деяния датчан», кн. VI, 4,10).
В мире викингов главное в противостоянии с драконом — умудриться проткнуть мягкие ткани его туши, защищаясь щитом, покрытым бычьими шкурами. Даже Сигурд нападает на Фафнира из засады. Благородный Вёльсунг протыкает змею мечом сердце, Фроди — живот, Фридлев — вообще пах, дракон Беовульфа гибнет от двух ударов: первый наносит верный дружинник, протыкающий мечом горло дракону, а затем сам герой вскрывает ножом утробу чудовища. Выпустить наружу внутреннее содержание и при этом избежать жала и ядовитого дыхания дракона — задача, которая стоит перед каждым. И только Беовульф с нею не справляется. Дж Р. Р. Толкин не стал акцентировать на этом внимание, но факт сам по себе примечательный. Вот приходили герои, убивали драконов и отправлялись восвояси, заполучив сокровища. У Беовульфа не вышло, и виной тому прежде всего желание сказителя изобразить поединок с драконом как последний подвиг героя. Дракон появляется в поэме не сам по себе, он — средство, инструмент, призванный сыграть определенную роль в повествовании.
Ничего подобного невозможно себе представить, когда речь заходит о святом короле Освальде или каком-либо ином персонаже знаменитой «Церковной истории англов» Беды Достопочтенного. Беда, и тут надо отдать ему должное, был отменным рассказчиком (пусть даже в рамках своего ограниченного монастырскими стенами репертуара), и лучшими образцами его повествовательного мастерства являются записанные видения монахов Дриктельма и история Кэдмона, внезапно обретающего поэтический дар. Но Беда, как историк и книжник (именно он, составляя хронографию мировой истории, окончательно сформулировал средневековую идею «О шести веках мира» — прообраз эпох толкиновского Средиземья), был привержен фактам.
0 самом короле Освальде нам известно не так уж иного1. Беда характеризовал его следующим образом («Церковная история англов», III, 6):
«Король Освальд и управляемый им народ научились уповать на Небесное Царствр, о котором не ведали их предки. Освальд также получил от Единого Бога, создавшего небо и землю, большее земное царство, чем было у всех его предков; ведь он правил народами и областями всей Британии, где говорили на четырех различных языках, а именно: бриттском, пиктском, скотгском и английском. Хоть он и стяжал верховную власть над всей страной, он всегда оставался добрым, милостивым и щедрым к бедным и путешествующим»2.
2 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., вступит, ст., коммент В. В. Эрлихмана. СПб., 2001. С. 79. Освальд действительно объединил южную и северную части Нортумбрии: Дейру и Берницию. Кроме того, он призвал в свое королевство ирландского монаха Айдана.
Другое дело упомянутое Адомнаном видение короля Освальда — самое раннее видение в литературе обитателей Британских островов (как кельтов, так и англосаксов):
«О том, какая благодать была ниспослана Всемогущим с небес почтенному мужу [св. Колумбану], можно рассказать, поведав о том, что произошло накануне сражения Освальда, правителя саксонского, с Кадвалоном, могущественным королем бриттов. Так вот, когда этот самый король Освальд встал лагерем, собираясь подготовиться к битве, как-то ночью он заснул в своем шатре, опустив голову на подушку, и увидел святого Колумбана в сияющем обличье ангела, достающего головой до самых небес. И вот, встав посреди его лагеря, облаченный почти с ног до головы в сверкающее одеяние, этот самый блаженный муж открыл королю свое имя. И поддержал его словами, а именно теми самыми, с которыми Господь обратился к Иисусу Бен Навину, когда после смерти Моисея настало время перейти через Иордан: «Будь тверд и мужествен, ведь Я буду с тобой!» Итак, святой Колумбан произнес это королю в видении и добавил: «Следующей ночью отправляйся из лагеря на битву. Господь ниспослал мне, что враги твои обратятся в бегство, и твой враг Кадвалон будет передан в руки твои, и из сражения ты возвратишься с победой, и счастливым будет твое правление». После этого проснувшийся король рассказал, собрав совет, о своем видении. И, укрепившись, весь народ пообещал, возвратившись после битвы, уверовать и принять Крещение. Ведь вплоть до самого того времени вся Саксония была покрыта мраком язычества и неверия, за исключением самого короля Освальда и двенадцати его воинов, которые были крещены вместе с ним, когда он пребывал в изгнании в [стране] скоттов. Что же произошло дальше? На следующую ночь король Освальд, как ему и было указано в видении, с очень малой дружиной выступил из лагеря и направился против многотысячного войска врагов. И Господь даровал ему, как и было обещано, счастливую и легкую победу. Так, уничтожив короля Кадвалона, он вышел в сражении победителем и впоследствии был поставлен Богом императором всей Британии. Об этом мне, Адомнану, рассказывал безо всяких сомнений мой предшественник, наш аббат Фаилбей. А он утверждал, что слышал об этом из уст самого Освальда, когда тот сообщил о видении аббату Сегенею».
Приведенная выше история — не просто сообщение, переданное писателем со слов очевидца. Живший в VII в. Адомнан был седьмым настоятелем основанного святым Колумбаном монастыря на острове Иона и старшим современником Беды Достопочтенного (ум. 25 мая 735 г.). Вполне возможно, эти люди друг друга знали: хронист отзывается об Адомнане с самыми теплыми словами. Произведения Адомнана Беда использовал в своих книгах.
Совокупность фактов, поведанных в исторических хрониках и житии св. Колумбана, свидетельствует о том, что биография короля Освальда1 (сложившего свою голову в 642 г. в битве с королем Пендой-язычником2) не могла выступать в роли фабулы эпической поэмы, подобной «Беовульфу». Пример со св. Освальдом уязвим как раз в том плане, что фактов мало: есть описание богоугодных поступков (подача милостыни, воспринятие короля-сородича от купели), но нет действия. Это подтверждает идею, высказанную в лекции 1936 г. профессором Дж. Р. Р. Толкином: сюжет конгениален форме, в которой он воплощается. Удел святого Освальда — быть героем житийной литературы и повествования Беды Достопочтенного, судьба Беовульфа — это сказание о нем.
2 Пенда приказал отрубить у трупа Освальда обе руки и голову, которые насадили на колья. Щепы этих кольев также приносили исцеление страждущим.
Стоит учитывать, что до нас не дошла ни одна древнеанглийская поэма, сопоставимая по размерам с «Беовульфом», а большинство «длинных» поэм сложено на библейские сюжеты и пересказывает (пусть даже очень образно) текст Священного Писания, следуя за изложенным там ходом развития фабулы. Батальные описания («Битва при Мэлдоне», «Битва при Брунабурге», «Битва при Финнсбурге») рассказывают только об одном отдельно взятом историческом событии. Таким образом, эпической песне о короле Освальде — в том виде, в котором ее представляет себе Дж. Р. Р. Толкин, — было неоткуда взяться (а появись, она оказалась бы чужеродной в корпусе сохранившихся текстов).
Для дракона и Гренделя требовалась гиперболизация и, если хотите, доверчивость по отношению к собственному воображению. Гренделем мог заинтересоваться тот, кому были небезразличны странствия Александра Македонского или огромный, в двенадцать локтей, рост святого Христофора. Чудеса же, приходящиеся на долю Беды и его аудитории, — это избавление коня от боли на могиле святого Освальда, излечение девушки-паралитика, поэтическое прозрение или воображаемое сошествие во Ад. Младший современник и корреспондент Беды апостол Германии святой Бонифаций, также интересовавшийся христианскими видениями, пожаловался Папе Захарию, что отдельные писатели все еще продолжают распространять слухи об антиподах, живущих по другую сторону земли. Папа ответил резко, заявив, что непременно стоит осуждать подобные выдумки. Полагают, что жалоба Бонифация была вызвана появлением книги «Космография Этика», которую одно время даже приписывали Вергилию, архиепископу Зальцбургскому. В «Космографии» рассказано о многом: народы Гога и Магога, кинокефалы, гигантские муравьи и прочая нечисть (об антиподах, правда, ни слова) — оттуда замечательная реплика: «О ты, Аквилон! Мать драконов и кормилица скорпионов, пещера змей и озеро демонов», — разошедшаяся в вариациях по всей средневековой литературе и сыгравшая немалую роль в появлении образа «wilderness of dragons», к которому обращается Дж. Р. Р. Толкин. Борьба св. Бонифация с антиподами современна как раз тому времени, к которому профессор Толкин относит создание «Беовульфа». Собственно говоря, тогда и наметилась граница предпочтений: одним видения, в которых являются картины Рая и Ада, и чудеса, совершаемые на мести мученичества святых, святой Дионисий, разгуливающий с отрубленной головой под мышкой, другим — безголовые люди с глазами на груди, драконы и великаны, скорпионы, гады, остров собакоголовых, приключения на море и под землею. Дело не в противопоставлении «христианского» и «языческого», а в аудитории. Беда Достопочтенный и св. Бонифаций обращались к людям, которым было вовсе не до драконов, даже если они и не склонны, доверяя Святому Писанию, отрицать существование оных. Следует отметить, что произведения Беды существуют в весьма замкнутом мире, объявляя своей темой церковную историю народа англов, автор аккуратно следует по указанному пути; другое дело автор анонимной франкской «Хроники Фредегара», пересказавший не только местные предания и легенды, но и переиначивший на свой лад события, происходившие далеко за пределами королевства. С другой стороны, и слушатели «Беовульфа» вряд ли ожидали узнать, например, побольше о деяниях святого Освальда, а если и ожидали, то с точки зрения их логики даже св. Георгий должен убить дракона, так оно в конце концов в средневековой литературе и произошло.
Приведенный Дж. Р. Р. Толкином пример со святым Освальдом (здесь правомочно повторить слова самого профессора о Р. У. Чамберсе и короле Ингольде) — пример не самый удачный. Посмотрим на дело с другой стороны, ведь даже история о змее и добытых у него сокровищах может быть рассказана совсем наоборот. Подвизавшийся при Дворе Карла Великого историк и поэт, лангобард по происхождению, Павел Дьякон изложил предание такого рода: «Гунтрамн был королем миролюбивым и наделенным всеми добродетелями. Следует поведать здесь об одной удивительной истории, с ним произошедшей, в особенности потому, что я не смог ее обнаружить в книгах франков. Когда он однажды отправился в лес на охоту и, как тому и следует быть, его спутники разъехались кто куда и король остался в компании самого преданного из своих слуг, короля сморил глубокий сон, он опустил голову слуге на колени и так заснул. И вот из его рта выполз мелкий зверек — какое-то пресмыкающееся — и принялся метаться вдоль берега прозрачного ручейка, что тек поблизости. И вот тот, на чьих коленях спал король, достал свой широкий меч из ножен и положил поперек этого ручейка, пресмыкающееся вскочило на меч и перебралось на другой берег и неподалеку оттуда нырнуло в нору, прошло какое-то время, оно появилось вновь, возвратилось назад по мечу и снова юркнуло в рот к Гунтрамну. После этого Гунтрамн проснулся и рассказал, что во сне ему явилось чудесное видение. По его словам, он видел, как во сне перешел по железному мосту какую-то реку, спустился в пещеру, расположенную под горой, где увидел огромное множество золота. Тот же, на коленях которого покоилась королевская голова во время сна, в свою очередь рассказал обо всем, что видел. Что дальше? В этом месте стали копать и обнаружили невиданные сокровища, которые были там спрятаны древними. Из этого золота король впоследствии сделал огромную тяжелую чашу и, украсив ее многочисленными драгоценными камнями, собрался отправить ее к Гробу Господнему в Иерусалим. Однако это ему не удалось, и тогда он приказал поставить ее на гробницу блаженного мученика Марцелла, находившуюся в городе Шалоне, где была столица его королевства. Там она находится и по сей день. И с нею не сравнится ни одна вещь, которая когда-либо была исполнена в золоте» (Павел Дьякон. «История лангобардов», III, 34). В этом рассказе присутствует все необходимое: пресмыкающееся, сокровища в пещере под землей, король, их добывающий, меч наготове, верный помощник и даже чаша, которая эти сокровища олицетворяет. А подвига не происходит... Сопоставив эту историю с преданиями о Беовульфе, Фроди или Фридлеве, невольно удивляешься возникающему подобию. Перед нами сюжет, составленный из тех самых мотивов-кирпичиков, но призванный сыграть совершенно иную роль в повествовании. Большой дракон становится мелкой ящеркой, все зависит от точки зрения. «Но даже маленький хоббит, — сказал бы здесь Дж. Р. Р. Толкин, — способен на многое».
|
«Боюсь, Вы правы, поиск источников «Властелина колец» займет одно или два поколения ученых. Мне бы этого не хотелось. На мой взгляд, интереснее всего рассматривать использование в каждой конкретной ситуации каждого конкретного мотива — был ли он выдуман, осознанно заимствован или случайно пришел на память». Дж. Р. Р. Толкин, 25 мая 1972 года |
РУКОПИСЬ «БЕОВУЛЬФА»
Единственный известный список «Беовульфа» — манускрипт Cotton Vitelius A XV (это сложное обозначение расшифровывается следующим образом: рукопись из коллекции сэра Роберта Коттона, находится в Британском музее, в шкафу, на котором помещалось изображение императора Вителия). Этот пергаментный кодекс, размером «in quarto», состоял из двух частей, в первой руками двух переписчиков XII века были записаны «Избранные изречения Августина» в переводе короля Альфреда, «Евангелие от Никомеда», «Соломон и Сатурн», а также фрагмент (длиною всего 11 строк), посвященный христианским мученикам. Вторая часть, написанная куда раньше первой, содержала отрывок из «Жития святого Христофора», «Чудеса Востока», «Послание Александра Аристотелю», «Беовульф» и поэму «Юдифь» (также без начала). С течением времени в нумерации листов возникла изрядная путаница.
В 1731 году случилось страшное...1 Как сообщали журналы:
«23 октября в доме мистера Бентли, примыкающем к Королевской школе неподалеку от Вестминстерского аббатства, возник пожар, в результате которого сгорела половина дома, где находились Королевская и Коттоновская библиотеки. Погибли все печатные книги и добрая часть манускриптов. Среди прочих рукописи, которые на протяжении последних десяти лет мистер Бентли собирал для издания греческого текста Нового Завета, стоимостью 2000 ливров».
Пострадал и манускрипт, в котором был записан «Беовульф»: серьезно обгорели края рукописи. Впоследствии страницы стали осыпаться, а текст исчезать. Из других утрат можно отметить манускрипт А XV из шкафа императора Отгона — погибли страницы с текстом «Битвы при Мэлдоне». Вообще-то говоря, ущерб, нанесенный пожаром, не был столь значителен, как предполагали первоначально: из 114 зачисленных в погибшие рукописей большинство удалось разыскать и сохранить — безвозвратно утрачены только 13 томов. Рукопись «Беовульфа» с годами осыпалась, но, к счастью, утрачиваемые фрагменты текста известны по спискам, сделанным переводчиком и первым публикатором поэмы датчанином Гримуром Йонссом Торкелином, который сделал с рукописи поэмы две копии (одну самостоятельно, а другую заказал переписчику). К сожалению, предпринятая в конце XVIII в. попытка переплести манускрипт только нанесла ему еще больший урон. По сравнению с изданием, выпущенным Торкелином в 1815 г., к 1817 г. не хватало уже 900 букв (так подсчитал Джон Коннибэр), в 1824 г. сэр Фредерик Мадден обнаружил, что потери еще более значительны. Считается, что тому виной стал и неограниченный доступ читателей к списку поэмы, повредили даже обе произведенные сверки. И только в 1845 г. сэр Ф. Мадден и Генри Гоу предприняли ряд мер, чтобы предотвратить дальнейшее осыпание. Меры эти были настолько успешны, что позволили в последнее время Кевину Кирнану восстановить часть ставшего нечитаемым текста, используя ультрафиолет, цифровую камеру и технологии обработки изображения.
Для тех, кто обращается к тексту «Беовульфа», вопрос о литературном окружении, в котором сохранилась поэма, всегда остается актуальным. Следовало бы напомнить слова Дж. Р. Р. Толкина о том, что истинный облик древнеанглийской поэзии — это страницы манускриптов, а не нумерованные строки современных изданий Читатель может и должен видеть контекст, в котором жил «Беовульф», в особенности учитывая то, что появление рассказа о герое, уничтожающем чудовищ, оказалось в кодексе совсем не случайным. Именно поэтому ниже представлены переводы латинских источников, которые, будучи переложенными на древнеанглийский, составили ту часть рукописи Cotton Vitelius A XV, которая предваряет текст «Беовульфа». Это прозаические произведения разного времени, но в каждом случае выбор делался в пользу текста, наиболее близкого к тому, что был положен монахом в основу своего перевода.
«Послание Александра Аристотелю о чудесах Индии» было написано не более века спустя после смерти великого македонского завоевателя: к реальному походу Александра в Индию этот текст имеет весьма косвенное отношение. «Послание о чудесах Индии» оказалось переведено на латынь и распространилось по Европе еще с самого начала Средневековья, образы фантастических чудовищ запечатлелись на капителях романских соборов. Александр, сам вступавший в единоборство с чудищами, стал достойным примером для подражания, недаром же Видсид открывает перечень правителей именем Александра.
У «Жития святого Христофора» не хватает начала, действие разворачивается уже в тот момент, когда гигантский святой (двенадцать локтей1 ростом!) оказывается перед царем. Естественно, подобному великану любые испытания нипочем.
«Чудеса Востока» — перевод сокращенной версии трактата, известного также под названием «Послание индийского царя Фарасмана императору Адриану»1 (в некоторых рукописях вместо Адриана адресатом становится Траян) — одно из самых занимательных произведений раннесредневековой литературы. О времени его создания можно судить исходя из того, что энциклопедист Исидор Севильский (ум. в 636 г.), скорее всего, почерпнул из послания некоторые сведения для своей «Книги этимологии». «Чудеса Востока» — текст, не отличающийся особыми изысками стиля или внятностью, скорее наоборот. Переписывавшие его люди, в свою очередь, кое-что и кое-как изменяли, смысл иногда терялся, зато повествование приобретало черты еще более удивительные. География «Послания» фантастична, многие названия уже не опознать, до такой степени они были изменены переписчиками. Его мир не слишком реален, зато весьма густо и разнообразно заселен сложно составленными зверями и существами, которые были изображены на страницах рукописи: панотии, блемнии, безголовые и двухголовые.
ЖИТИЕ СВЯТОГО ХРИСТОФОРА
(Fol. 94a)
«Не глупец я, но раб Господа Иисуса Христа, ты же глупец и безумец, ибо исповедуешь не Господа Иисуса Христа, а отца своего, сатану»1. В гневе царь приказал связать его по рукам и ногам и хлестать железными прутьями, а на голову ему надеть раскаленный шишак. И тут произнесли трое из консулов: «Блажен был бы ты, Дагне, если б не родился на свет, ибо подобным казням приказываешь подвергнуть раба Божьего!» В гневе царь приказал их обезглавить.
Тут святой Христофор сказал ему. «Если можешь подвергнуть меня еще большим пыткам, то подвергни, о глупый царь, жизнь моя — вечна, и твои пытки для меня сладостнее меда из пчелиных сот». Тут царь приказал изготовить железную скамью ему по росту, пришли мастера, сняли с него мерку, а мера его была двенадцать футов. Все было сделано по повелению царя, и скамью поставили посреди города, и царь приказал его к ней привязать, а снизу развести огонь. А еще повелел вылить на него сорок бочек масла. И из чрева огня ответил Божий святой: «От казней, которым ты подвергаешь меня по своей безнравственности, истощаются боги твои. Я уже однажды сказал тебе: не боюсь я ни казней твоих, ни гнева твоего». Когда он произнес это из чрева огня, скамья стала подобной воску. Царь пришел и увидел, что святой Христофор стоит посреди пламени и молится и лицо его румянится, как у свежей розы, и, увидев его, от великого страха царь пал ниц и пролежал от первого часа до часа девятого.
Когда же он встал, то обратился к святому Христофору: «Зверь лютый, разве не довольно тебе тех грехов духа, которые ты совершил, не дав приносить жертвы богам, но и весь народ мой хочешь забрать себе?» Святой Христофор так ответил ему: «Еще множество душ обретут через меня веру в Господа Иисуса Христа, да и ты сам». Царь, проклиная его, сказал святому Христофору: «Так ты и меня хочешь завлечь своими злыми чарами?» И в великом гневе царь добавил: «Мои боги сделали для меня это, и они открыли мне, что если завтра в этот же час я не погублю твою душу, то заставлю тебя последовать примеру всех остальных». На следующий день он повелел привести святого Христофора, и когда тот предстал перед его лицом, сказал ему: «Я уже принес жертвы богам, и запомни слово мое: погибель твоя придет скоро»1. Святой же Христофор ответил: «Мне твои боги мерзостны, ибо у меня — своя вера, которую я принял с крещением».
И тут царь приказал подобрать большое бревно размером с него и поставить перед дворцом и повелел привязать к бревну Христофора, раба Божьего. И каждый из воинов, пришедших по приказанию царя, выстрелил в ра6а Божьего тремя стрелами, чтобы быстрее убить его. И сказал царь: «Посмотрим, сможет ли его Господь вмешаться и избавить его от рук моих и этих стрел». И стреляли в него с первого часа до часа двенадцатого, и полагал глупый царь, что все стрелы попадают в тело Христофора, но стрелы уносило ветром то вправо, то влево, и ни она из них до тела его не дотронулась. После захода солнца царь приказал оставить его связанным и сторожить, чтобы христиане его не освободили. Множество народа ожидало, когда можно будет забрать его тело.
На следующий же день царь сказал: «Пойдем и посмотрим на этого злодея». Пришел и сказал ему: «Где же твой Бог? Почему не пришел и не освободил тебя из рук моих и от стрел моих?» И тут же одна из этих стрел вонзилась в глаз царю и ослепила его. И произнес святой Христофор: «Глупый тиран, говорю тебе, если только ты поверишь, завтра, в восьмом часу, я приму венец всех благ и удостоюсь того, чтобы предстать перед Господом, и придет множество христиан, они возьмут мое тело и отнесут в место молитвы, ты же отправляйся в это место, смешай свою кровь с прахом во имя Господа нашего Иисуса Христа, помажь свой глаз и тем излечишься». И тут приблизился час венчания Божьего святого. Он открыл свои уста для молитвы и произнес: «Господи Боже мой, Ты привел меня от заблуждения к знанию, прошу Тебя, сделай для меня так, чтобы на место, где упокоится тело мое, не обрушивался град, не проникали огонь, голод и поветрия, и в городе том, и в месте том, если были злодеи и одержимые бесом, то, придя, и помолившись от всего сердца, и назвав в своих молитвах рядом с именем Твоим имя мое, да обретут они тем спасение». И раздался ему голос с небес: «Христофор, раб мой, где будет тело твое и там, где его не будет, станут поминать имя твое в молитвах своих, и то, о чем будут просить, они получат и спасутся». И исполнив свое благое мученичество, он принял венец в месяце июле, в седьмые календы августа.
Тех, кто, благодаря святому Христофору, поверили в Господа Иисуса Христа, насчитывается тысяча сорок восемь человек и сто одиннадцать душ. На следующий день царь сказал: «Пойдем посмотрим, куда они положили его». И, оказавшись в том месте, он воскликнул громким голосом: «Христофор, раб Божий, яви мне силу Бога твоего, чтобы я в него уверовал!» И он поднял прах земли, где тот принял мучение, пропитанный его кровью, наложил на око свое во имя Бога Христофора, и в тот же час обрел зрение его глаз. Тут царь воскликнул громким голосом: «Слава тебе, Бог христиан, являющий Свою силу испытывающим страх перед Тобой, и я с завтрашнего дня объявлю свое повеление всему народу и всем языкам: тот, кто станет проклинать Бога христиан, будет сражен мечом». Вот какую молитву оставил святой Христофор: «Господи Иисус Христос, вознагради переписывающих и читающих мученичество мое, ибо Ты правишь вместе с Отцом и Святым Духом и ныне, и вечно, и во веки веков. Аминь».
ЧУДЕСА ВОСТОКА
(Fol. 94b)
(III) Колония начинается от Антимолимы (Antimolime) и простирается на пятьдесят стадий, то есть, если считать в левках, — триста шестьдесят восемь. На этом острове множество овец. (IV) И оттуда до Вавилона насчитывается 168 стадий, то есть 115 левок. Это большая купеческая колония, и там водятся валухи величиной с быка. (V) Оттуда по направлению к мидянам расположен город Архемедон (Archemedon) — самый большой после Вавилона Оттуда до Вавилона 300 стадий, то есть 200 левок от Архемедона. (VI) Там расположены большие столпы, которые велел воздвигнуть Александр Великий. Эта страна насчитывает в длину 200 стадий, то есть 133 левки и полмили. (Х.1) По направлению к Красному морю расположено место под названием Лентибельсинея (Lentibelsinea), где обитают такие же куры, как и у нас, красного цвета. Когда кто-нибудь захочет их взять и только тронет рукой, тут же все их тело превращается в пепел. (Х.2) Кроме того, там водятся звери. Они как звук человека заслышат, тут же убегают. У них восемь ног, медузины глаза и две головы. Если кто желает их изловить, то вооружает тело свое.
(XI.1) Она примыкает к богатствам мидян. В этом месте родятся змеи с двумя головами, у которых глаза ночью светятся подобно светильникам.
(XI.2) Там водятся онагры с бычьими рогами, размером — огромные.
(XII.1) Они по правую руку от Вавилона к Красному морю пробираются тайно из-за змей, которые водятся в этих местах и у которых рога наподобие бараньих: если оци кого преследуют, то он погибает.
(XIII) От Вавилона до города Персии, где растет перец, 800 стадий, или 620 левок и полмили. Эти места пустынны из-за множества змей.
(XIV) Также там водятся кинокефалы, которых мы называем конопены, у них лошадиные гривы, кабаньи зубы, собачьи головы, они извергают огонь и пламя.
(XV) Рядом с ними расположен богатый город, изобилующий всеми благами.
(XVI.1) По правую сторону простирается эта земля от Египта.
(XVI.2) В этом месте течет река, которую капы (Capi) называют Горгоновой (Gorgoneus). Там водятся добывающие золото муравьи величиной с собаку, у которых лапы, наподобие лангустов, красного и черного цвета. И то, что ночью добывают под землей, вытаскивают наружу до пятого часа пополудни. Люди же — те, кто отважен, — оное похищают, и похищают так: берут верблюдов-самцов и самок, у которых есть детеныши, которых оставляют привязанными за рекой Гаргул (Gargulum), и нагружают верблюдиц золотом. Из любви торопяться к своим жеребятам, и там остаются самцы, и когда муравьи преследуют их, то обнаруживают самцов и поедают — пока они этим заняты, самки вместе с людьми перебираются через реку. Они столь быстры, что подумаешь, будто они летят.
(XVII.1) Между двумя этими потоками расположена колония Локофея (Locotheo), находящаяся между Нилом и Бриксонтом. Нил — это «голова» реки, и он течет по [земле] Египта, и египтяне называют его Архоболета (Archoboleta), то есть Большая Вода.
(XVII.2) В этих местах водится огромное множество слонов. На востоке, за рекой Бриксонт, обитают люди большие и длинные, у которых бедра и икры размером в двенадцать локтей, бока и грудь — семь локтей, цвета они черного, мы их справедливо называем враждебными: кого схватят — съедают.
(XVII.4) Также в Ликонии в Галлии родятся трехцветные люди с львиными головами, 20 ногами [или длиной в 20 локтей], пастью огромной, словно веялка. Когда людей завидят или когда кем преследуются, далеко убегают и покрываются кровавым потом. Их считают людьми. В Бриксонте водятся и иные звери, называемые лертики (lertices), у них ослиные уши, овечья шерсть и ноги овец.
(XVII.5) К югу, на Бриксонте, есть еще один остров, там обитают люди без голов, у которых глаза и рот на груди, высотой они 8 локтей и шириной также 8 локтей.
(XVII.6) Там обитают драконы длиной в 150 локтей, а в ширь — с колонну. Из-за изобилия драконов в этих местах никто не может перейти через реку.
(XIX) В Вавилонском царстве есть и другая область, где — между Мидией и Арменией — расположена пребольшая и превысокая гора. Люди там живут честные, в их власти находится Красное море. Там родятся драгоценные перлы.
(XXI) Около этого места обитают женщины, у которых бороды до груди, они используют лошадиные кожи в качестве одеяний, а еще они отличные охотницы, выращивают в качестве собак тигров и леопардов, которые родятся на этой горе, и охотятся вместе с ними.
(XXII) Есть там и другие женщины, у которых кабаньи зубы, волосы по щиколотку, на поясницах — бычьи хвосты. Высотой они 12 локтей, телом прекрасны, словно белый мрамор, ноги у них верблюжьи, кабаньи. Многие из них из-за своей безнравственности были перебиты Александром Великим, ибо он не смог захватить их живыми и убил, поскольку они были распутны и нечестивы телом.
(XXIII) Рядом с Океаном обитает вид зверей, которые называются катины (cattini). Они весьма красивы. И там живут люди, питающиеся сырым мясом и медом. Слева от них царство Катинов, и там гостеприимные цари, и под ними — множество властителей, живущих возле Океана. А по левую руку — множество царей. Люди этого племени живут много лет, люди эти благорасположенные, и, если кто к ним приходит, они отпускают его со своими женщинами. Когда Александр Великий пришел к ним, то он, удивленный их человечностью, не захотел их ни уничтожать, ни убивать более. Там есть деревья, на которых родятся и произрастают драгоценные камни.
(XXIV.l) Другое племя очень черных людей, называющихся эфиопы (Sigelwara).
(XXIV.2) За ними, справа от Океана, поселение [размером] 323 стадии, что составляет 253 левки и одну милю, и там обитают «получеловеки» (homodubii), которые по пуповину имеют человеческий облик, а остальное тело подобно онаграм, ноги — длинные, как у птицы, голос — нежный, но, как человека увидят, убегают подальше.
(XXVI.1) Есть там еще одно поселение людей-варваров, где обитают 110 царей, и это племя весьма варварское и негодное.
(XXVI.2) Есть там и два других места — одно Солнца, другое Луны. То, которое Солнца, днем горячее, ночью холодное, а то, которое Луны, ночью горячее, а днем холодное. Простираются они на 200 стадий, то есть на 133 левки и полмили. В этом месте растут деревья наподобие оливы и лавра. И на этих деревьях родится бальзам. И на пути оттуда место, размером в 151 стадию, то есть 51 левку.
(XXVI.3) Итак, в Красном море есть остров, где обитает племя людей, которых у нас называют «донестры», [то есть] «богоподобные», от головы до пупка они подобны людям, остальное тело напоминает человеческое, они говорят на языках разных народов. Как увидят какого-либо чужеземца, окликают его на его родном языке и называют имена его родственников и свойственников, обращаются приветливо, чтобы схватить его и убить. Когда он приближается к ним, убивают его и съедают. А затем берут голову этого человека — того, которого съели, — и горько плачут над нею.
(XXVI.4) За ними на Востоке обитают люди длиной 15 локтей, шириной 10 локтей, с большой головой и ушами наподобие веялок. Одно себе ночью подстилают, другим себя укрывают и так прячутся в своих ушах. У них тело легкое и белое, словно молоко. Когда они увидят людей, поднимаются на своих ушах и убегают далеко — так что можно принять их за летающих.
(XXVI.5) Там расположен и другой остров, где живут люди, у которых глаза светятся, словно светильники.
(XXVIII.1) Есть там и иной остров, длиной и шириной 360 стадий, то есть 11О левок, и там храм Бела, построенный во времена царей и Иова из меди и железа. И там расположен Дом Солнца на Востоке, где находится миролюбивый жрец, который охраняет это расположенное на море место.
(XXVII.2) У восхода Солнца на Востоке расположен золотой виноградник, чьи лозы простираются на 150 локтей, и они плодоносят перлами.
ПОСЛАНИЕ АЛЕКСАНДРА АРИСТОТЕЛЮ
О ЧУДЕСАХ ИНДИИ
(Fol. 107a)
I. Светлейший наставник, самый дорогой мне человек после матери моей и сестер, я постоянно вспоминал о тебе среди тех тягот, которые перенес в сражениях, и, поскольку я знаю, что ты предан искусству философии, решил написать тебе об областях Индии и о разнообразии змей, людей и зверей, которые там обитают, ибо когда человеку становится известно что-то новое, то расцветают его дарования и умножаются познания. Хотя в тебе заключена великая мудрость и твоя ученость всеобъемлюща, однако, поскольку ты любишь меня, я желаю написать тебе о том, что с великими трудами и опасностями, перенесенными македонцами, мне удалось увидеть в Индии, дабы тебе стало известно о деяниях моих и не осталось ничего, о чем тебе было бы неведомо. Да и достойно все то, что удалось увидеть мне, остаться в памяти [людской]. Я не поверю ни в одно явление на земле, коли прежде не увижу его своими глазами. Удивительна
В предыдущих письмах я сообщал тебе о затмении Солнца и Луны и знамениях в воздухе, сведения о которых я с великой тщательностью привел в порядок и тебе отправил. И по мере того как предпринимались новые исследования, я все записывал, дабы ты, прочитав, познал, с какими трудами Александр смог этого достичь.
II. В мае месяце, после того как на реке под названием Граник Дарий, царь персидский, потерпел поражение, мы подчинили себе все его земли, поставили над восточными провинциями облеченных нашим доверием людей и обогатились многими сокровищами, как о том я уже сообщал в предыдущем письме. Но дабы не показаться многословным, не повторяю рассказ о деяниях прошлого, о которых тебе уже известно.
В конце месяца июля мы достигли Фасисской Индии, где с великой стремительностью победили царя Пора. И чтобы это навечно осталось в памяти, мне кажется уместным написать тебе о многочисленности его войска, в котором были, не считая пеших воинов, четырнадцать тысяч восемьсот квадриг, все с серпами, и четыреста слонов, которые несли башни, а в них стояли люди, вооруженные для сражения. И мы завладели городом Пора и его жилищем, где стояло сорок колонн из чистого золота, с золотыми капителями, и стены этого дворца были сложены из золотых кирпичей толщиной с палец руки. Так что я во многих местах приказал надпилить их, [чтобы проверить, из цельного ли они золота]. Между колоннами висела золотая виноградная лоза с золотыми листьями, а кисти были из кристаллов, на них висели камни огненные и смарагды, и все помещения во дворце были изукрашены камнями, которые называются жемчужинами, а также перлами и карбункулами. Там были царские чертоги из белой слоновой кости, с потолками из дерева эбен, это темная порода дерева, которая растет в Индии и Эфиопии, своды же были сделаны из кипариса. И снаружи этого дворца стояли золотые статуи и произрастали золотые платаны, в ветвях которых обитали многообразные птицы различных цветов с позолоченными головами и коготками, а в ушах у них висели перлы и жемчужины. Мы обнаружили там множество сосудов из драгоценных камней, кристалла и золота, сосудов же из серебра было мало.
III. Когда все это оказалось в моей власти, я пожелал увидеть внутреннюю Индию и отправился вместе со всем своим войском к Каспийским вратам. Нас удивила эта благодатная страна, и я узнал там много такого, что мне показалось невероятным. В этих самых местах водились различные звери и змеи, и жители этой страны поведали нам, что из-за этих зверей и змей мы подвергаемся большой опасности. Но я желал преследовать и настичь царя Пора, который бежал с [поля] сражения, до того, как он спрячется в безлюдных пустынях, и взял с собою сто пятьдесят проводников, которые знали дорогу. В месяце августе мы отправились в путь под палящим солнцем по песчаным пустыням, я обещал награду тем, кто вел меня по неведомым областям Индии, если мы живыми и невредимыми доберемся до Бактрии, где обитает народ, который называется серами, и где растут деревья, чьи листья подобны пуху, и жители тех мест собирают оные и делают из них себе одежды. Те же, кто показывал нам. дорогу, как я понял, хотели завести нас в гибельные места, в которых было множество змей, зверей и чудовищ.
Когда я понял это, то сказал, что виноват во всем сам, потому как пренебрег советами моих друзей и обитателей страны Каспийской, которые предупреждали меня не стремиться завоевать победу подобным способом. Я повелел всем вооружиться. Ибо опасался, что на нас нападут враги и украдут все золото, драгоценные камни и прочие богатства, которые несли с собой мои воины. Они стали настолько богаты, что едва могли нести свою добычу, кроме того, они были весьма отягощены оружием, потому что я велел все оправить золотом, и мое войско сияло, словно звезды. Великим чудом было увидеть подобную армию, ибо и убранством, и мужеством своим она превосходила другие войска. Я же, любуясь моим процветанием, весьма радовался, глядя на славных юношей. Но, как оно порой бывает, когда человек достигает процветания, он лишается чего-то другого, так и мы стали страдать от ужасной жажды. И когда уже не могли выносить ее, один из моих воинов, по имени Зефир, обнаружил в выемке камня воду, он наполнил ею свой шлем и принес мне, ибо любил меня больше жизни. Я же созвал свое войско и перед лицом всех вылил эту воду на землю, потому что если бы мои воины увидели, что я выпил ее, то стали бы еще больше страдать от жажды. Я воздал хвалу той доброте, которую питал ко мне Зефир, и щедро одарил его. Мой поступок укрепил сердца воинов, и мы отправились дальше.
IV. Пока мы блуждали, в пустынных местах я увидел реку, а по берегу той реки рос тростник высотой в шестьдесят футов и толщиною больше сосны, из него делали доски для постройки хижин. Я тут же приказал разбить лагерь, ибо люди и животные страдали от жажды. Когда же мы захотели напиться воды из реки, она оказалась горькой, как чемерица. А поэтому ни люди, ни животные не могли ее пить безболезненно. Мы печалились в большей степени из-за животных, потому что знали: люди более стойко переносят все напасти. А с нами шли: тысяча слонов, которые несли золото, и четыреста боевых колесниц с серпами, в каждую из которых было запряжено по четыре лошади, и тысяча двести других колесниц, и в каждую из них запряжено по две лошади, двадцать тысяч конных и двести пятьдесят тысяч пеших воинов, около двух тысяч мулов, которые везли необходимое для лагеря и для людей, верблюды одногорбые и двугорбые, и две тысячи быков, нагруженных съестными припасами, и огромное множество быков, коров и скота для еды. На многих лошадях, слонах и мулах была золотая упряжь.
Животные от невероятной жары стали необузданными. Воины лизали железо, пили масло, а некоторые дошли до такого отчаяния, что пили свою мочу. Я был невероятно напуган этим и более тревожился за своих людей, чем за собственную жизнь. Я повелел, чтобы все шли вооруженными, сказав, что те, кого увижу безоружными, будут наказаны, хотя многие удивлялись, какая нужда в том, чтобы вооружаться, когда никаких врагов нет и в помине. Но мне было известно, что мы должны пересечь места, изобилующие зверями и змеями.
V. Мы проследовали вдоль берега уже упомянутой реки с горькой водою и в восьмом часу дня приблизились к одной крепости, расположенной на острове посреди этой реки и построенной из того самого необыкновенного тростника. Там мы увидели немногочисленных людей, индийцев, которые скрылись тут же, как нас заметили. Я хотел поговорить с ними, дабы они указали мне, где есть вода. Но, поскольку никто из них не появлялся, я велел выпустить по этой крепости несколько стрел, дабы если они не желали выходить по своей воле, то вышли бы из страха. Но они попрятались, испугавшись еще больше. Тогда я послал к острову двести легко вооруженных македонцев.
Едва они переплыли четвертую часть реки, как вдруг нам явилась новая напасть. Мы увидели, как из глубины поднялись гиппопотамы, которые своей силой превосходили слонов. Гиппопотамами их называют потому, что они наполовину люди, наполовину лошади. Они пожрали македонцев, посланных переплыть реку, а мы смотрели на это и проливали слезы. И вот я, разгневавшись на тех, кто привел нас в эти места, приказал сотню из них бросить в воду. Тогда гиппопотамы полезли из реки, словно муравьи, и пожрали их. Но, дабы не сражаться с этими чудовищами ночью, мы ушли оттуда.
VI. Когда наступил одиннадцатый час дня, мы увидели посреди этой реки людей в круглых суденышках, сделанных из тростника, и спросили их, где можно найти пресную воду. Они же на своем языке ответили, что неподалеку есть озеро и туда отведут нас проводники. Мы проблуждали всю ночь, страдая от жажды, к тому же все были вооружены, поскольку нас подстерегали всевозможные опасности. Но тут на нас обрушилось новое бедствие: навстречу нам вышли львы, медведи, барсы, тигры, и мы сражались с ними до самого утра. На следующий день мы уже были совсем изнурены, когда в восьмом часу добрались до этого озера. Испив пресной воды, я весьма обрадовался, и все войско и животные тоже смогли утолить жажду. Затем я приказал поставить лагерь длиной и шириной по три мили и сжечь камышовый лес, росший по берегам этого озера, которое достигало мили в ширину. Слонов разместили посреди лагеря, ибо так воинам легче было удержать их в повиновении, если кто-нибудь нападет ночью. Потом мы разожгли полторы тысячи костров. Ибо у нас было достаточно дерева.
VII. В одиннадцатом часу протрубили трубы, и я приказал всем воинам ужинать, при этом были зажжены около двух тысяч золотых светильников. Как только на небе взошла луна, стали появляться скорпионы, пришедшие к этому озеру на водопой. Затем начали собираться большие зверин змеи, и они были самых разных цветов: одни красные, другие черные, третьи белые, четвертые золотистые, так что вся земля задрожала от их свиста, и нас охватил великий страх.
По краю лагеря я велел расставить в ряд большие щиты, мы взяли в руки длинные копья и протыкали ими нападавших на нас змей. Некоторых из них мы уничтожили огнем и так выстояли в этом сражении. Змеи напились воды и уползли прочь, а мы весьма обрадовались этому. Был третий час ночи, когда мы уже надеялись отдохнуть, и вдруг появились другие змеи, с гребнем на голове и толщиной с колонну, спустились же они с гор, возвышавшихся неподалеку, и приползли к воде. Они приближались, расправив грудь и надув щеки, а из очей источали яд. Их дыхание было смертоносным. Мы сражались с ними больше часа ночи1, и они убили тридцать наших слуг и двадцать воинов. Я призвал македонцев не терять присутствия духа. После того как уползли змеи, появились раки, у которых спины были крепкие, как у крокодилов, и когда мы метали в них копья, то копья наши не пробивали их панцири. Однако многих из них мы уничтожили огнем, а прочие уползли в озеро.
Наступила четвертая ночная стража, и мы собрались отдохнуть, но тут появились белые львы и с громким рыком, потрясая своими гривами, напали на нас. Мы же перебили их, протыкая охотничьими рогатинами. Из-за всех этих напастей в лагере поднялось волнение. После этого появились свиньи удивительной величины и разных цветов, с ними нам тоже пришлось сразиться. Затем появились летучие мыши величиной с сизых голубей, а зубы у них были острые, словно у людей, и они впивались прямо в липа, и некоторые наши воины скончались от ран.
VIII. Между тем вышел некий зверь гораздо сильнее слона, на голове у него было три рога, и на индийском языке этот зверь назывался дендентираном. Внешне он походил на лошадь, а голова у него была черной. Сначала он попил воды, но вдруг, увидев лагерь, стремительно бросился на нас. Я выставил против него македонцев. Он убил из них двадцать четыре [воина], а пятьдесят два человека растоптал. Однако нам удалось убить его. Затем в лагере появились землеройки величиной с лис, покусавшие наших животных, которые умерли на месте. Для людей же их укусы были не опасны. С приближением рассвета прилетели птицы, похожие на коршунов, они были красного цвета, а лапы и носы у них черные. Они не причинили нам вреда, но заполонили весь берег и принялись ловить рыбу и угрей и поедать их. Они не нападали на нас, и мы на них. Я разгневался на проводников, которые привели нас в столь негостеприимные места. И приказал, перебив голени в тех местах, где находятся скакательные суставы, и отрубив кисти рук, бросить их на съедение змеям.
IX. Затем я призвал своих воинов быть мужественными и не отступать. Под звуки труб мы двинулись в путь, ибо, объединившись, варвары и индийцы решились снова воевать против нас. Удача и одержанные победы вселили в моих воинов великую храбрость. Покинув опасные месте, мы пришли в земли, изобиловавшие золотом и прочими богатствами, и жители той страны приняли нас благосклонно. Я решил провести там двадцать дней, чтобы дать отдых войску, затем мы за семь дней достигли того места, где уже обосновался Пор.
Он хотел разузнать обо мне и спрашивал моих воинов, где я нахожусь и что делаю. Мои воины ответили ему: «Мы не знаем, чем занимается Александр», — а сами пришли ко мне и рассказали о том, про что их спрашивал Пор. Услышав это, я снял с себя царское платье, облачился в одежды воина и притворился, будто отправляюсь в крепость, чтобы доставить вина и мяса. Увидев меня, Пор приказал подойти и спросил о том, что делает Александр и сколько ему лет. Тогда я, притворяясь, солгал, ответив так: «О годах мне его известно, что старец он и, скорее всего, сидит у огня, как все старцы». И тогда он возрадовался, ибо ему предстояло вступить в сражение со старым человеком, а поскольку он был юн, то он преисполнился гордыни и сказал: «Неужели он решается воевать с юношей?» На что я ответил: «Чем занимается Александр, мне неведомо, ибо я — пастух одного из македонских воинов». Он тут же дал мне письмо, полное угроз, чтобы я вручил его Александру, и за это пообещал наградить меня. Я поклялся ему исполнить это и сказал: «Знай, что твое послание непременно попадет в руки Александру». Еще до того, как сам я словно на крыльях возвратился в лагерь, и потом, когда я читал письмо, много смеялся, а поэтому копию письма посылаю тебе, мой наставник, равно как матери моей и сестрам, чтобы вы подивились гордыне и высокомерию этого варвара.
X. Я тут же выступил против индийцев и покорил их своей десницей, как того хотел. Но потом возвратил Пору царство, отнятое у него оружием. Он, когда ему неожиданно была оказана такая милость, показал мне свои сокровища, о которых я не ведал и из которых он обогатил меня, и моих полководцев, и все войско, и, превратившись из врага македонцев в друга, отвел [нас] к столпам Геркулеса и Диониса (Либера). У крайних пределов Востока он поставил золотые изображения обоих богов. Я, пожелав узнать, цельные ли они внутри, продырявил их насквозь и, как увидел, что они целиком отлиты из золота, заделал их тем же металлом, умилостив Диониса (Либера) и Геркулеса лучшими1 жертвами.
Мы собрались отправиться дальше, дабы увидеть
XI. Когда мы попытались перейти высохшее болото, изобиловавшее камышом, выскочило невиданное чудище с зубчатой спиной, грудью гиппопотама и двумя головами. Одна из них была подобна голове львицы, а другая подобна голове крокодила, и эта голова, вооруженная огромными зубами, сделав внезапный выпад, убила двух воинов. Этого зверя мы едва сокрушили молотами, ибо копьями его проткнуть не смогли. Долгое время мы удивлялись, насколько он необыкновенный.
XII. Затем мы достигли самых отдаленных лесов Индии. И там, возле реки Буэмар, разбили лагерь длиной и шириной в пятьдесят стадиев. И когда мы приготовились отойти ко сну в одиннадцатом часу дня, прибежали перепуганные фуражиры и дровосеки и сообщили, что из леса на нас идет огромное стадо слонов. Тогда я приказал фессалийским воинам вскочить в седла и взять с собой свиней (ибо нам было известно, что слоны боятся их хрюканья) и появиться прямо перед слонами. А за ними должны были следовать другие всадники, вооруженные копьями, и трубачи верхом на лошадях, а всем пешим велел оставаться в лагере. Сам же я, отправившись вперед вместе с конницей и царем Пором, увидел стадо зверей, устремившихся на нас с поднятыми хоботами, спины у них были черного, белого и красного цвета, а некоторые были пятнистыми. По словам Пора, если их поймать и приручить, то можно использовать в военном деле, столкнувшись же с ними, их легко обратить вспять, если только свиньи, которых хлещут всадники, не замолчат. И действительно, слоны, придя в смятение, бросились обратно в лес, напуганные звуками труб и хрюканьем свиней. Из них наша конница перебила около девятисот восьмидесяти, и, отрубив бивни, воины с добычей вернулись в лагерь. Тогда я приказал возвести вокруг лагеря забор, сложенный из щитов и панцирей, чтобы ночью на нас не напали слоны или какие-либо другие звери. Однако ночь была тихой, и до самого восхода все предавались сну.
XIII. На следующий день мы отправились в другие области Индии и на открытой равнине увидели мужчин и женщин, тела которых были покрыты шерстью, как у зверей, ростом они были девять футов. Индийцы называют их фавнами, эти люди обитают в болотах и реках, питаются только сырой рыбой и пьют только воду. Когда мы захотели приблизиться к ним, они погрузились в водовороты реки. Затем мы обнаружили рощу, полную огромных кинокефалов, которые попытались напасть на нас, но, отведав стрел, обратились в бегство. И теперь, когда мы вступили в места пустынные, индийцы сообщили, что там дальше нет ничего достойного нашего внимания.
XIV. Собираясь вернуться в Фасис, откуда мы начали свой путь, я приказал изменить направление и разбить лагерь на расстоянии двенадцати миль от воды. И вот, когда уже поставили все шатры и развели большие костры, налетел восточный ветер и поднялся вихрь такой силы, что он сотряс и поверг на землю все наши сооружения, так что мы пришли в изумление. Четвероногие были встревожены, их обжигали искры и головешки из разметанных костров. И тогда я стал ободрять воинов, объясняя, что это произошло не из-за гнева богов, а потому, что наступали месяц октябрь и осень. Едва собрав военное снаряжение, мы обнаружили место для лагеря в согреваемой солнцем долине, и я приказал всем перейти туда и перенести вещи. Восточный ветер стих, но к вечеру наступил невероятный холод. Вдруг начали падать огромные снежинки, похожие на руно. Опасаясь, как бы снег не засыпал лагерь, я повелел воинам утаптывать его. Только мы избавились от одной напасти — ибо неожиданно снег сменился проливным дождем, — как появилось черное облако и на нас посыпался огонь, словно горящие факелы падали с неба, и от этого воспламенилась вся долина. Воины боялись сказать, что это гнев богов обрушился на них, ибо я, человек, попытался отправиться дальше тех мест, где бывали Дионис (Либер) и Геркулес. Я повелел рваными одеждами затушить пожар. Вскоре небо вновь прояснилось, мы помолились, вновь разложили костры и спокойно принялись за кушанья. Три дня мы не видели солнца и над нами проплывали грозные облака. Похоронив пятьсот своих воинов, которые полегли среди снегов, мы отправились дальше.
XV. Мы увидели пещеру Либера. Нам сказали, что каждый, кто проникнет в пещеру бога, умирает на третий день от лихорадки. Тогда мы отправили туда пропащих людей и обнаружили, что это правда. Я обратился со смиренной мольбой к могущественным богам, прося возвратить меня, царя всего мира, назад, в Македонию, к матери моей Олимпиаде. Но понял, что всуе просил об этом. Затем я разузнал у индийцев, которые были со мной, осталось ли еще что-нибудь достойное моего внимания, но они ответили, что уже нет. Поэтому мы отправились назад, в Фасис.
XVI. Вдруг на нашем пути показались два старца. Когда мы спросили их, известно ли им что-либо в этой местности, достойное нашего внимания, они ответили, что им ведомо нечто примечательное и они могут показать мне это, но путь туда займет дней десять, и к тому же он весьма труден, изобилует водными преградами и змеями.
Обрадованный, я спросил старцев: «Что же там такого необычного и восхитительного?» Тогда один из них с радостью сказал мне: «Царь, ты увидишь два дерева: дерево солнца и дерево луны, говорящие по-индийски и по-гречески, и от них сможешь узнать обо всем плохом и хорошем, что ждет тебя в будущем». Это было столь невероятным, что я заподозрил обман и повелел их припугнуть и высечь, сказав так: «Неужели великий царь прибыл с запада на восток для того, чтобы надо мной насмехались дряхлые старики?» Они же поклялись, что в их рассказе нет и капли лжи и я сам в короткий срок смогу проверить, правду ли они говорили. Несмотря на мольбы моих друзей и сотоварищей не поддаваться обману и не ходить туда, я взял с собой тридцать тысяч всадников, а остальное войско во главе с военачальниками царя Пора и обоз отправил в Фасис. Сам же вместе с отборным отрядом юношей последовал за этими старцами, которые повели нас, как и говорили, по ужасным и неприветливым местам, и наконец мы дошли до этих деревьев. По пути мы повидали множество змей и зверей, о которых не буду тебе писать, ибо все они имеют имена только на языке индийцев.
XVII. Приблизившись к тому месту, куда нас вели старцы, мы увидели нескольких мужчин и женщин, одетых в шкуры, когда мы спросили у них, что они за люди, они назвались индийцами. Вокруг сказанных деревьев рос густой лес, изобиловавший фимиамом и опо-бальзамом, которые в большом количестве появлялись в этой роще и которыми обыкновенно питались здешние жители. И вот мы вступили в священный лес и увидели его хранителя: десяти футов высотой, тело черное, зубы собачьи, с проколотыми ушами, из которых свешивались перлы, и он был одет в шкуры. Приветствовав меня, он спросил, зачем я пришел. Я же сказал ему: «Желаю посмотреть на священные деревья луны и солнца». Тут варвар ответил мне: «Если от соития, — говорит, — с мальчиком или женщиной ты чист, то ты можешь вступить в божественную рощу». За мной следовали мои соратники и воины, числом около трехсот. Он приказал, чтобы они сняли кольца, одежды, а также обувь. Мы повиновались и сделали так, как он велел. Был одиннадцатый час дня, и жрец ожидал заката, он утверждал, что дерево солнца говорит и дает ответ, когда его касаются солнечные лучи. А ночью заговаривает дерево луны. Это мне показалось больше похожим на ложь, чем на правду.
XVIII. И вот я начал блуждать по всей роще, а внутри нее были стены невысокой постройки, и видел я замечательно пахнущий опобальзам, который изобильно стекал по ветвям со всех сторон. Завороженный этим запахом, я отодрал наросты с коры, и мои сотоварищи сделали то же самое. Посреди згой рощи произрастали похожие на кипарисы деревья высотой в сто футов. Я удивился им и сказал, что они так разрослись благодаря частым дождям, но жрец уверил меня, что в этом месте никогда не бывает ни дождей, ни зверей, ни птиц и не заползают никакие змеи. Он сказал, что эта роща была посвящена в древности предками индийцев солнцу и луне и деревья выросли благодаря обильным слезам, которыми люди орошали их из страха перед могуществом божеств во время затмения Луны и Солнца. Когда я вознамерился совершить жертвоприношение или заклать жертвенное животное, священник мне это запретил, ибо в том священном месте запрещено воскурять фимиам или убивать животных, но можно поцеловать извивающиеся корни деревьев и помолиться солнцу и луне, чтобы они даровали мне правдивый ответ. Я спросил священника, по-индийски или по-гречески будут говорить деревья. Он сказал так: «Дерево солнца говорит на обоих языках, дерево луны начинает по-гречески, а заканчивает по-индийски».
XIX. После этого мы увидели, как лучи солнца дотронулись до макушек деревьев, и жрец сказал: «Посмотрите все наверх, и кто о каких вещах спрашивать будет, пусть хранит о том молчание и не произносит этого в чьем-либо присутствии». Мы попытались разглядеть, не прячется ли среди деревьев сорока или попугай, которые могут разговаривать человеческим голосом. Но, ничего не обнаружив, я стал размышлять о том, суждено ли мне, покорив весь мир, возвратиться с триумфом на родину, к матери Олимпиаде и дорогим сестрам, и тут же по-индийски тонким голосом дерево ответило: «Непобедимый в сражениях Александр, ты будешь единственным повелителем этого мира, но живым не вернешься к себе на родину, ибо Судьбы уже вынесли решение о твоей смерти».
Поскольку я не знал, что за дерево произнесло эти слова, то попросил индийцев, которые были при мне, объяснить, и они сказали мне, что это было дерево солнца. Друзья мои горько заплакали, услышав это, но поскольку я взял с собой трех самых преданных друзей — Пердикку, Диторику и Филоту, то кого мне было опасаться в этом месте, где не дозволено убивать. Мы пошли дальше и стали ожидать вечернего часа, чтобы спросить дерево луны. Но луна никак не появлялась. Затем мы пришли в священную рощу еще раз и встали рядом с деревом луны, поклонились ему и спросили, где нам суждено встретить смерть. После того как луна залила своим светом макушку, дерево ответило мне по-гречески: «Александр, иссякло число твоих лет. В наступающем году, в месяце мае, ты умрешь в Вавилоне и примешь смерть о того, от кого меньше всех ожидаешь». И тогда я залился слезами, заплакали и сотоварищи мои. Ни одного из них я не подозревал ни в чем подобном, и они скорее были готовы принять смерть ради моего спасения. Когда я возвратился оттуда, моя душа погрузилась в печаль, и я не хотел принимать пищу. Друзья просили меня не убивать себя постом, и вот вопреки своей воле я поел немного и отправился в священное место, чтобы успеть до первых лучей солнца. Ранним утром следующего дня, едва забрезжил рассвет, я поднял полусонных друзей, но жрец, укрывшись звериными шкурами, все еще спал, а перед ним на столе лежали большой кусок фимиама, служившего ему ежедневной пищей, и нож слоновой кости. Они нуждаются в меди, железе и свинце, но золота у них в изобилии. Питаются опобальзамом и фимиамом, пьют воду из чистого источника, текущего с соседней горы, ложатся и спят безо всяких подушек и одеял, а только на шкурах звериных. Живут же они почти три сотни лет. Разбудив жреца, я вошел в рощу в третий раз, чтобы спросить священное дерево солнца, чья рука нанесет мне смертельный удар и какая смерть ожидает мою мать и сестер. Дерево сказало по-гречески: «Если я открою имя того, кто злоумышляет против тебя, уничтожив его, ты с легкостью изменишь судьбу, и разгневаются на меня три мои сестры, Клото, Лахезис и Атропос, ибо правдивым предсказанием спутаю их пряжу. Так вот, через год и девять месяцев ты умрешь в Вавилоне — не от железа, как подозреваешь, не от золота, не от серебра, не от какого-либо металла, а от яда. Твою мать ожидает жалкий и позорный конец, лишенная могилы, она будет валяться на дороге, станет пищей зверям и птицам, а сестры твои по воле богов долгое время будут счастливы. Ты же, хотя у тебя осталось мало времени, станешь повелителем всего мира. Теперь остерегись, не спрашивай нас ни о чем больше, покинь пределы этой рощи и возвращайся в Фасис к Пору». И священник предупредил нас, чтобы мы уходили, ибо вызываем неудовольствие у священных деревьев своими плачами и причитаниями. И тогда я, встретившись со своими воинами, сказал, что в соответствии с ответом мы отправляемся в Фасис к Пору и что будущее нам сулит благоденствие и счастье, о сроке жизни моей я умолчал, дабы не отнять, находясь в дужих странах, у моих соратников надежду на возвращение. Честь заставляла моих спутников хранить об этих ответах молчание.
XX. Оттуда мы отправились в долину Иордан, где встречаются змеи, у которых в голове камни, называемые смарагдами. Они обитают на равнине, куда никто не смеет вступать, и по этой причине там стоят пирамиды высотой в тридцать пять футов, построенные древними индийцами. Эти змеи питаются лазерпицием и белым перцем, их глаза источают свет, каждый год весною сражаются между собой, и многие погибают от укусов. Оттуда мы унесли несколько крупных смарагдов.
С великими опасностями мы достигли укрепленного места, где водились неведомые звери с головою свиньи, хвостом льва, парными копытами шириною в шесть футов, которыми они наносили раны людям. Там же были грифы, с головами, как у орлов, в остальном же совсем на орлов не похожие, с огромной скоростью они набрасывались на лица людей. Одних воины поразили стрелами, других — копьями. Я потерял там двести шесть человек.
XXI. Затем мы подошли к реке, которая течет к Океану, а от одного берега до другого она шириной более двадцати стадиев, и по берегам рос камыш столь высокий и толстый, что один стебель едва могли поднять тридцать воинов. Это место населяло бесчисленное множество слонов, которые — неизвестно почему — не причинили нам никакого вреда. Мы построили суда из камыша и переправились на другой берег реки, где обитали индийцы, одевавшиеся в звериные шкуры. Они поднесли нам губки белые и красные, витые раковины и раковины улиток, в которые вмещалось по два или три конгия (3,275 л), а также покрывала и туники, изготовленные из шкур морских тюленей. А еще раковины объемом в один секстарий (0,547 л), прекрасную пищу, и червей толщиною больше человеческого бедра, выловленных в этой реке, которые показались нам вкуснее любой рыбы, и грибы огромной величины краснее кошенили. Положили они перед нами и мурен весом в двести фунтов, утверждая, что в Океане, находящемся в двадцати трех милях, водятся мурены и больших размеров. А еще рыб [под названием] скар весом в сто пятьдесят фунтов, которых ловят в море вершами из слоновой кости, потому что тростниковые они могут перекусить, и для того, чтобы их не украли волосатые женщины, питающиеся рыбой. Когда чужестранцы купаются в реке, эти женщины или затягивают их в пучину и топят, или увлекают в камыши. И поскольку они прекрасны обликом, то тех, кого охватила пылкая страсть, или разрывают, или любовными наслаждениями доводят до смерти. Мы схватили двух из них. Их тело было цвета снега, они подобны нимфам, с распущенными волосами.
XXII. Мы видели реку Ганг — весьма удивительную, но о ней я умолчу, чтобы не показаться тебе пустословом. Оттуда мы отправились к крепости, в которой обитают индийцы, их старейшины предостерегли нас и вывели через Каспийские врата в Фасис, к царю Пору. Мы же думали, что это вражеская хитрость и старцы дали нам ложный совет. Следуя за дуновением восточного ветра, мы добрались до мест, где обитали звери, из голов которых наподобие мечей торчали острые кости. Эти звери набрасывались на наших воинов и протыкали их щиты рогами. Так они убили примерно девять тысяч четыреста пятьдесят из них. И оттуда, претерпев по пути великие трудности и подвергаясь множеству опасностей, мы прибыли к царю Пору. И там я повелел моему воину по имени Алкон, которого я отправил вперед себя в Персию, поставить в землях персидских и вавилонских две мои статуи из цельного золота высотой в двадцать пять футов и записал на них все мои деяния. А также в самых отдаленных пределах Индии, за сотней статуй Либера и Геркулеса, тот же самый Алкон поставил пять в мою честь, высотой в десять футов.
Это ради грядущих чудес, которые произойдут в грядущие времена, мой светлейший наставник, совершили мы ныне столь великое, невиданное и удивительное и явили пример таких добродетелей, чтобы и у потомков вызывала восхищение моя слава, а ты, наставник, узнал все упорство, стремительность и рвение моего духа.
ЗАКОНЧЕНО1.
Fol. 132a — «Беовульф».
Fol. 202a–209b — «Юдифь».
|
«На реке Рона, в лесной чаще, расположенной между городами Арлем и Авиньоном, обитал некий дракон — наполовину зверь, наполовину рыба, толщиной превосходивший быка, длиной — лошадь. Его зубы походили на лезвие меча, заточенного с двух сторон, и были острыми, словно рога. С каждого бока он был вооружен двойными круглыми щитами. Он прятался в реке и убивал всех, следующих мимо, а корабли топил. Прибыл он из моря Галатского в Азии и был порождением Левиафана, свирепого водяного змея, и животного под названием онагр, что водится в галатской земле и преследователей поражает на расстоянии югера своим жалом или пометом, а все, до чего оное дотрагивается, выжигается, словно от огня. Марфа по просьбам людей отправилась к нему и обнаружила дракона, который поедал человека, в лесной чаще Она окропила его святой водой, осенила крестным знамением и показала ему распятие. Побежденный, он сделался кротким, словно овца, а святая Марфа связала его своим поясом, после чего люди забили его копьями и камнями. Жители называли дракона Тараскон, отсюда и место это стало прозываться Тараскона, а прежде оно называлось Нерлук, то есть Черное Озеро, потому что чаща там была темная и тенистая». |
Каким представлялся дракон средневековому человеку? Наиболее полный ответ на этот вопрос можно найти в сочинении «О природе вещей» Фомы из Кантимпрэ (первая половина XIII в.). Согласно сведениям, собранным Фомой из книг Плиния Старшего (I в.), св. Августина (IV в.), кардинала Якова де Витри (ум. в 1241 г.), а также из «Книги о зверях и чудовищах» (VIII—IX вв.), дракон — существо весьма свирепое, которое, однако, не так сложно уничтожить.
В дальнейшем представления о природе дракона становились все разнообразнее. Оказывается, дракон (и эта точка зрения отражена в предании о змее Фафнире, которого убивает Сигурд) — это оборотень, приобретающий звериный облик ввиду определенных качеств характера. Драконы могут иногда превращаться в людей, и наоборот, люди становится драконами. О подобных превращениях говорится в двух книгах: «Императорских досугах» Гервазия Тильсберийского, написанных как развлекательное чтение для коронованных особ, и «Путешествии сэра Джона Мандевилля», романе первой половины XIV в., в котором нашли отражение легенды, привезенные крестоносцами с острова Кипр.
Наряду с драконом (или червем), победу над которым одерживали Сигурд, Фроди и св. Георгий, существует еще одна очевидная параллель подвигу, совершенному Беовульфом. Это история о том, как Александр Великий одолел змея василиска. По примеру иных героев Александр не вызывает второго по величине змея (самого «значительного» после дракона) на открытый поединок, напротив, он прибегает к хитрости. Определяющим мотивом становится специально изготовленный щит, способный оградить от зловония, испускаемого змеем. Подобно Фроди, Александр прикрывает своим щитом все тело. Подобно Беовульфу, македонец отправляется на подвиг в одиночку. Главное для него — дождаться момента, когда змей увидит свое отражение и погибнет. В латинской литературе сюжет об одолении василиска появился неведомо откуда, хотя на Востоке к тому времени за Александром уже давно утвердилась репутация драконоборца.
Параллель становится более очевидной, когда мы обнаруживаем, что в сборнике средневековых новелл, известных как «Римские деяния»1, зеркало используется уже для того, чтобы обнаружить драконов. В этом коротком рассказе XIII в. соединяются вместе все образы: зеркала или булатного щита, с помощью которого можно обнаружить змея или противостоять ему, и мудреца, разгадывающего, откуда берется опасное зло, — будь то Сократ, применяющий лист кованого железа, Александр, с огромным щитом, на ходулях, или юный Мерлин, обнаруживающий под скалой, на вершине которой Вортиген пытается возвести крепость, двух драконов, красного и белого, символизирующих борьбу между бриттами и англами2.
2 Нений. История бриттов. Гл. 42.
Разрываясь между Гренделем и драконом, мы, возможно, забываем о иных чудовищах, которые также присутствуют на страницах «Беовульфа». Это морские твари, нападающие на главного героя, когда он соревнуется в плавании с Беркой, сыном Бенстана, и обитатели озера, одного из которых Беовульф подбивает стрелой. Очевидные параллели обеим историям можно обнаружить в «Житии святого Колумбана», когда морские чудища вдруг нападают на корабль Кормака, а сам Колумбан укрощает монстра на реке Несс (кстати говоря, это сообщение считается самым ранним свидетельством существования знаменитого лох-несского чудовища).
Дракон, согласно Якову и Августину, — это самое большое из сухопутных животных. Ядом не обладает. На голове у него гребешок, пасть по сравнению с остальным телом маленькая, зажатая артериальными сосудами, при дыхании он высовывает язык и раскрывает рот, но зубами не убивает. Укус его наносит ужасный вред, поскольку, согласно Экспериментатору, дракон питается ядовитыми тварями. Если кого ударит хвостом, то убьет, и даже огромное тело слона не защищает его от подобной участи. Согласно Плинию, весной дракон испытывает тошноту, с которой борется с помощью сока молочая. Он чаще всего обитает в пещерах посреди скал, а все из-за жара, столь необходимого телу, в особенности во время полета. Именно поэтому драконы водятся в местах, доступных солнцу, в наибольшей степени в странах восточных. Чаще всего их можно встретить в самых жарких местностях. Говорят, что вокруг Вавилонской башни, в самой Вавилонской башне, в Вавилонской пустыне и на развалинах города обитают огромные драконы, чей глас наводит на людей ужас. Они нередко достигают в длину двадцати локтей. Взгляд дракона непереносим для людей, поэтому некоторые умирают, едва встретившись с ним глазами. Когда дракон достигает старости и положенной величины, то может долгое время жить без пищи. Но во время еды с трудом насыщается, а все потому, что это очень холодное животное, и малая толика жара, которая в нем есть, не позволяет ему поглощать большие влажные тела. Мне представляется неестественным, что драконы живут и могут продолжать жить до наступления Конца Света, не употребляя никакой пищи, как, например, дракон, которого по повелению святого апостола Петра Папа Сильвестр заключил внутри горы, расположенной в Риме. Полагаю, что это божественное чудо. Однако в «Истории бриттов» рассказывается о том, как были обнаружены два дракона, живущие под землей. Согласно Августину, в недрах земли обитал дракон, который, едва почуяв сильные порывы дождя и ветра, вылезал на поверхность и, как утверждают, принимался грести своими большими крыльями по воздуху, зачерпывая воздух и выбрасывая его, а крылья у него были покрыты кожей и распростерты вширь сообразно с величиною его тела. В местах своего обитания дракон отравляет воздух. Лап у него нет. Существует вид драконов, которые ползают, опираясь грудью о землю. Существует вид драконов, у которых есть лапы, но такие встречаются очень редко. Как пишет Аделин, из черепа дракона добывают камень драконий, но он обладает ценностью только в том случае, если изъят из живого чудовища. Поэтому, когда дракон, ничего не подозревая, спит на жаре, ему одним ударом разрубают голову и так, покуда он жив, достают оттуда руками камень. Язык и желчный пузырь дракона, сваренные в вине, приносят облегчение тем, кто страдает от демонов-инкубов, ибо от этого снадобья демоны покидают их тела.
В книге, где собраны изречения древних, рассказывается, что существуют домашние драконы, в особенности в Эфиопии. У них очень холодное тело, которое нагревается при полете, отчего драконы нуждаются в крови слонов, которая оказывает охлаждающее действие. Охотятся на дракона следующим образом: произносят некие древние заклинания, а затем, как поднимется ветер, бьют перед драконом ветками коралла, от чего возникает звук, похожий на раскаты грома, чтобы он от испуга не мог пошевелиться и подчинился воле охотников. А все потому, что драконы боятся грома и молнии сильнее, чем все остальные животные на свете. И стоит услышать громовой раскат, как дракон тут же прячется в норе или пещере. Неудивительно, что природа позаботилась о том, чтобы защитить свои создания, ибо утверждают, что молния убивает драконов прямо на месте, а согласно Плинию, наоборот, в природе молния никогда не попадает в орла или лавр, этим они выделяются среди птиц и деревьев. Когда же от звуков драконами овладевает страх, охотники привязывают себя на их спинах, чтобы за несколько часов добраться до самых отдаленных мест. Однако их надежды оказываются обманутыми, поскольку, перелетая на дальние расстояния, драконы лишаются сил и тонут вместе со своими седоками в море.
Существует еще один способ поимки драконов: берут теленка, вынимают у него внутренности, наполняют его утробу негашеной известью, и, подперев жердями, устанавливают в том месте, где часто появляется дракон. Едва показавшись, он заглатывает приманку. Вскоре негашеная известь пропитывается влагой и сжигает дракона изнутри. Он отправляется к источнику, чтобы напиться, но чем больше пьет, тем сильнее становится жар. Так страна избавляется от разорителя.
О драконтопедах. Согласно философу Аделину, греки называют драконтопедами больших и сильных змей, у которых человеческие, похожие на девичьи лица, а тело как у драконов. Возможно, именно из этого вида происходил тот змей, который соблазнил Еву, праматерь нашу.
«Книга о природе вещей»
В народе рассказывают, что драконы, приняв человеческий облик, расхаживают по рынкам, не будучи узнанными. Утверждают, что они обитают в подводных пещерах, расположенных на реках, и в образе золотого колечка или золотой чаши, плывущих по воде, привлекают к себе женщин или купающихся детей, которые, желая схватить предмет, устремлялись вслед за ним, драконы внезапно набрасывались на них и тащили под воду. Говорят, что чаще всего это происходит с кормящими матерями, которых драконы похищают, чтобы взрастить своего несчастного отпрыска, и некоторые из них по прошествии семи лет возвращались с подарками в наш мир. Они рассказывали, что вместе с драконами и их женами жили в просторных дворцах в пещерах и у берегов рек. Мы сами встретили одну такую женщину. Как-то раз она вышла на берег Роны стирать пеленки и увидела, что мимо нее плывет деревянная чаша; решив подхватить оную, она зашла поглубже и тут была схвачена драконом, который увлек ее под воду и сделал кормилицей своего дитя. Так вот, через семь лет она возвратилась невредимой, муж и сын едва ее узнали Она рассказывала удивительные вещи: драконы поедают захваченных людей и принимают человеческий облик. Однажды она готовила для дракона кушанье из мяса угря и пальцы, замазанные в жире, поднесла к лицу, задев ими глаз, отчего стала отчетливо и ясно видеть под водою. Завершив срок своей службы и возвращаясь домой, она повстречала верховного дракона Белликадра и, узнав его, спросила о состоянии госпожи и отпрыска. Дракон спросил. «Каким глазом ты меня увидела?» Она же показала на тот глаз, до которого она дотронулась жирным пальцем. Догадавшись, в чем дело, дракон вонзил женщине в глаз палец, после чего, уже невидимый, отправился в другую сторону.
А еще на реке Роне, у северных ворот города Арля, у которых расположен дом стражи, есть омут, совсем такой же, как под горой Тарасконой, где во времена святой Марты, сестры Лазаря и Магдалины, оказавшей гостеприимство Христу, прятался, чтобы губить приносимых ему Роной людей, змей Тараск, порождение морского чудища Левиафана. Утверждают, что в этом бездонном омуте при ночном свете частенько видели драконов в человеческом облике, и прошло не так много лет с тех пор, когда из глубин Роны раздавался голос, который на протяжении трех дней слышали люди, находившиеся за воротами города. Казалось, будто кто-то бегает по берегу реки и кричит: «Час миновал, а человек не пришел!» И вот когда на третий день, где-то в девятом часу, голос стал совсем походить на человеческий, некоего прибежавшего на берег юношу поглотил омут, и больше этого голоса никто не слышал.
«Императорские досуги», III, 85
Говорят, что на острове Ланго до сих пор живет дочь Гиппократа в обличье большого дракона. И как утверждают некоторые, ибо я сам ее не видел, длиной она в сто морских саженей. Те, кто живет на острове, называют ее Госпожою страны.
Она прячется в пещере старого замка и показывается только два или три раза в год, вреда никому не причиняет, если ее не тревожат. Она была заколдована и превращена из прекрасной девушки в дракона одной богиней по имени Диана, И останется в таком виде до тех пор, пока не найдется рыцарь столь храбрый, что осмелится поцеловать ее в губы. Но, превратившись снова в женщину, она не проживет долго. Не так давно один рыцарь из Родосской крепости из числа родосских госпитальеров, толковый и храбрый, сказал, что он пойдет и поцелует дракона. Он отправился по широкой дороге, добрался до замка и вошел в пещеру. Тут дракон проснулся и приподнял голову, чтобы рассмотреть пришедшего. Но когда лошадь увидела страшилище, она перепугалась, вскочила на вершину высокой скалы и бросилась вместе с всадником в море. Вот так погиб этот рыцарь. Как-то раз один молодой человек, который ничего не знал об этом драконе, сошел с корабля на остров и добрался до самого замка. Он проник в пещеру и спускался в нее до тех пор, пока не обнаружил там комнату, в которой сидела прекрасная девушка, окруженная множеством сокровищ. Она причесывалась перед зеркалом. Юноша решил, что перед ним женщина доступная и в этой комнате она принимает своих дружков. Вышло так, что девушка увидела его отражение в зеркале и, повернувшись к нему, спросила, чего он хочет. Он ответил, что желает быть ее другом. Она спросила, рыцарь ли он, и он ответил, что нет. «Тогда вы не можете быть моим другом, — сказала она. — Но отправляйтесь к своим сотоварищам и становитесь рыцарем. А назавтра, как только наступит рассвет, приходите сюда и поцелуйте меня в губы, ничего не бойтесь, ибо я не причиню вам вреда, хотя мой вид покажется вам страшным. Это из-за колдовства, ибо я такова, какой вы видите меня сейчас. И если вы поцелуете меня, то получите все эти сокровища и станете моим мужем и правителем этого острова». Он ушел оттуда, отправился к своим спутникам на корабль и попросил у них посвящения в рыцари. На следующее утро он вернулся к девушке, чтобы поцеловать ее. Но, увидев ее в глубине пещеры в столь ужасном обличье, он очень испугался и бросился к своему кораблю. Она последовала за ним. Рыцарь от страха даже не оглянулся, и дракон горько заплакал и побрел назад, к себе в пещеру. В тот же день юноша скончался. И с тех пор ни один рыцарь не мог увидеть ее без того, чтобы не умереть тотчас. Но если придет тот, у кого хватит храбрости подойти и поцеловать ее, он не умрет, наоборот, девушка примет свой истинный облик, а он станет правителем страны. После этого я отправился на остров Родос, которым владеют и управляют госпитальеры, а они некогда отобрали его у императора. Раньше этот остров назывался Колоссом, и многие правители-турки называют его так и по сию пору. Святой Павел обращался к живущим на этом острове с посланием «К колоссянам». Этот остров находится в восьми лье пути по морю от Константинополя.
ДРАКОН И ВАСИЛИСК
[Воины Александра] направились к некой горе, которая была такой высоты, что они достигли ее вершины только через восемь дней. Наверху набросилось на них огромное множество драконов, змей и львов, так что они подверглись великим опасностям. Однако они избавились от этих напастей и, спустившись с горы, оказались на равнине столь темной, что один с трудом видел другого. Облака там проплывали так низко, что до них можно было дотронуться руками. На этой равнине росли неисчислимые деревья, листва и плоды которых были очень вкусны, и струились наипрозрачнейшие ручьи. На протяжении восьми дней они не видели солнца и на исходе восьмого дня добрались до подножия некой горы, воины начали задыхаться в густом воздухе. Наверху воздух был менее плотным, и выглянуло солнце, так что стало светлее. Через одиннадцать дней они дошли до вершины, и увидели на другой стороне сияние чистого дня, и, спустившись с горы, оказались на огромной равнине, земля которой была необычайно красная. На этой равнине росли бесчисленные деревья, высотой не более локтя, плоды и листья их были сладкими, словно фиги. И еще они увидели там множество ручьев, чьи воды были подобны молоку, так что людям никакой иной пищи не требовалось. Блуждая по этой равнине в течение ста семидесяти дней, они подступили к высоким горам, вершины которых, казалось, достигают неба. Эти горы были обтесаны, словно стены, так что никто не мог на них подняться. Однако воины Александра обнаружили два прохода, рассекающие горы посередине. Один путь вел на север, другой — в сторону восточного солнцестояния. Александр задумался, как эти горы были рассечены, и решил, что не руками человеческими, а волнами потопа. И тогда он выбрал путь на восток и в течение восьми дней шел по этому узкому проходу. На восьмой день они повстречали ужасного василиска, птенца древних богов, который был столь ядовитым, что не только зловонием, но даже взглядом, насколько можно рассмотреть, заражал воздух. Одним взглядом он пронзал персов и македонцев так, что они падали замертво. Воины, узнав о подобной опасности, не решались идти дальше, говоря: «Сами боги преградили нам путь и указывают, что дальше идти не следует». Тогда Александр в одиночку стал взбираться на гору, чтобы издалека рассмотреть причину подобной напасти. Когда он оказался наверху, то увидел спящего посреди тропы василиска. Как учует он, что человек или какое животное к нему приближается, открывает глаза, и на кого упадет его взгляд, тот погибает. Увидев это, Александр тут же спустился с горы и очертил границы, за пределы которых никому нельзя было выходить. А еще он приказал изготовить щит шести локтей в длину и четырех в ширину, а на поверхности щита приказал поместить большое зеркало и сделал себе деревянные ходули высотой в один локоть. Надев щит на руку и встав на ходули, он двинулся на василиска, выставив щит, да так, чтобы ни голова, ни бока, ни ноги из-за щита не были видны. А еще повелел воинам своим, чтобы никто установленные рубежи пересекать не смел. Когда он приблизился к василиску, тот открыл глаза и в гневе стал рассматривать зеркало, в котором узрел самого себя и потому погиб. Александр понял, что он мертв, подошел к нему и, позвав воинов своих, сказал: «Идите и посмотрите на вашего губителя». Поспешив к нему, они увидели мертвого василиска, которого тут же по повелению Александра македонцы сожгли, восхваляя мудрость своего царя. Затем вместе с войском он достиг пределов этого пути, ибо перед ним встали горы и скалы, вздымавшиеся подобно стенам. По тропе они возвратились назад на вышеупомянутую равнину, и он решил повернуть на север.
Между двумя горами Армении проходила одна дорога, и долгое время люди пользовались ею часто, а затем случилось так, что из-за отравленного воздуха никто не мог отправиться этим путем, избежав гибели. Царь спросил мудрецов о причине подобной напасти, но ни один не знал истинной причины этого. И тогда призванный Сократ сказал царю, чтобы возвели постройку такой же высоты, что и горы. А когда это было сделано, Сократ велел изготовить зеркало из плоского булата, сверху отполированного и тонкого, чтобы в этом зеркале можно было увидеть отражение любого места в горах1. Сделав это, Сократ поднялся наверх постройки и увидел двух драконов, одного со стороны гор, другого со стороны долины, которые разевали друг на друга пасти и испепеляли воздух. И пока он смотрел на это, некий юноша верхом на коне, не ведавший об опасности, отправился той дорогой, но тут же упал с коня и испустил дух. Сократ сразу поспешил к царю и рассказал ему обо всем, что увидел. Позднее драконы были с помощью хитрости схвачены и умерщвлены, и так дорога снова стала безопасной для всех проезжающих.
КОРМАК И МОРСКИЕ ЧУДОВИЩА
Когда Кормак в третий раз бороздил море Океан, угроза неминуемой гибели нависла над ним. Летней порой его судно в течение четырнадцати дней и стольких же ночей южный ветер влек от земли по направлению прямо к северному пределу неба. Странникам показалось, что они очутились за пределами мира, достижимыми для рода людского, и возращение уже невозможно. Случилось так, что по прошествии десятого часа четырнадцатого дня на них обрушились вовсе невыносимые и невероятные напасти. Ибо некие до сих пор невиданные безобразные и невероятно свирепые зверюшки, кишмя кишащие в море, набросились, о ужас, на днище и борта, корму и нос корабля и стали кусать их столь свирепо, что казалось, будто они могут проникнуть сквозь кожаную обшивку судна. И как рассказывали позднее мореплаватели, оные твари были размером с лягушку, жалили очень больно, однако летать по воздуху не могли и плавали по морю, жаля кисти опущенных в воду рук. Кормак вместе с сотоварищами, увидав этих чудищ, весьма встревожились и, перепугавшись, стали молиться Богу, в тяготах Милосердному и Заступнику беззащитных.
В этот час святой наш Колумбан, хотя и находился далеко, в душе своей следовал за кораблем Кормака. Поэтому в час напасти, ударив в колокол, он созвал братию в молельню и церковь со словами: «Братия, со всем упорством молитесь за Кормака, который, странствуя, пересек пределы, дозволенные людям, и в этот час страдает от обрушившихся на него чудовищных и прежде невиданных, вовсе неописуемых и наводящих ужас напастей. Долг наш в думах своих сопереживать собратьям нашим и молить Господа вместе с ними. Ведь сейчас Кормак и его спутники, залив лица потоками слез, усердно молятся Христу, и мы присоединимся к их молитве, заклиная, чтобы южный ветер, посылаемый нашим собратьям до сего часа на протяжении четырнадцати дней, переменился на северный и избавил корабль Кормака от гибели». И, сказав так, он, преклонив колени, горько заплакал перед алтарем, обращаясь к Господу, повелителю ветров и всего на свете, а завершив молитву, встал, осушил слезы и радостно возблагодарил Бога: «Ныне, братия, поздравим наших, ибо Господь только что переменил южный ветер на северный, уводящий наших собратьев от опасности, и они сейчас возвращаются к нам». Едва произнес он эти слова, как в местах, где плыл Кормак, южный ветер утих и задул северный. Спустя много дней корабль Кормака достиг земли, и он пришел к святому Колумбану, и они благодаря Богу с великим взаимным удивлением и с немалым ликованием Предстали друг перед другом. Пусть осознает читатель, каким был блаженный муж и каким было его пророческое видение, если, призвав имя Христово, он мог повелевать ветрами и Океаном.
СВЯТОЙ КОЛУМБАН И МОРСКОЙ ЗВЕРЬ
Однажды святой Колумбан провел несколько дней во владениях пиктов, пришлось ему перебираться через реку Несс. Оказавшись на ее берегу, он увидел местных жителей, предававших земле жалкого человечка, о котором сами хоронившие поведали, что несколькими днями раньше его, плывущего, загрыз свирепый подводный зверь. А его несчастный труп выловили крюками те, кто в челноке отправился ему на помощь. Блаженный муж, узнав об этом, приказал, чтобы один из его спутников переплыл через реку и привел лодку, стоявшую на другом берегу. Услышав повеление святого Лугн моху Мин без промедления послушался и, раздевшись до туники, вошел в воду. Но чудище, которое не столько насытилось, сколько распалилось от жажды добычи, затаилось на дне реки. Учуяв, как кто-то плывет по поверхности, оно тут же поднялось на поверхность и, разинув пасть, устремилось прямо к плывущему, находившемуся посреди реки. И тут блаженный муж на глазах у всех — как варваров, так и своих спутников, застывших от ужаса в оцепенении, подняв руку, осенил воздух крестным знамением и с именем Бога на устах приказал зверю: «Ты не посмеешь ни плыть дальше, ни тронуть человека. Возвращайся скорее назад!» И тут зверь, приблизившийся к Лугну настолько, что до человека оставалось не более одного гребка, услыхав голос святого, повернул вспять и, словно его гнали плетьми, пустился убегать в испуге. Братия, увидев, что зверь отступил, а их соратник Лугн возвратился назад в лодке целым и невредимым, с превеликим восхищением стали хвалить Господа и святого мужа. Да и варвары-язычники, которые присутствовали при этом, восхищенные величием этого чуда, прославляли Бога христиан.
ПОДВИГ СИГУРДА
|
«Добавлю также, что в исландской литературе Толкина привлекал и сам факт того, что слишком многое было утрачено. На протяжении всей своей жизни Толкин получал удовольствие, заполняя пробелы в сохранившемся наследии. Так, например, в Codex Regius — рукописи «Старшей Эдды» — не хватает восьми листов как раз там, где изложены предания цикла о Сигурде. Толкин написал две поэмы, которые могли бы заполнить этот пробел, причем написал их на древненорвежском и соблюдая размер. Они называются Sigur Томас Шиппи.
|
САГА О ВЁЛЬСУНГАХ
Сказывают так, что Хьордис родила мальчика-сына, и отвезли мальчика того к Хьялпреку-конунгу. Обрадовался конунг, когда увидел острые те глаза, что были у него во лбу, и сказал, что ни с кем он не будет схож и никому равен. И окропили его водою и дали ему имя — Сигурд. И был он взращен у Хьялпрека-конунга в большой любви. И как начнут исчислять наиславнейших людей и конунгов в древних сагах, так всегда будет Сигурд впереди всех по силе и сноровке, по крепости и мужеству, в коих был он превыше всех людей на севере земли.
Рос Сигурд у Хьялпрека, и все дети его любили. Хьялпрек женил Алфа-конунга на Хьордис и назначил ей вено.
Регином звался пестун Сигурдов, и был он сыном Хрейдмара; он научил Сигурда всякому искусству, тавлеям и рунам, и на разных языках говорить, как подобало королевичу, и многим другим хитростям. Однажды спросил Регин Сигурда, когда были они наедине, знает ли он, какое великое богатство было у его отца и кто его хранит. Сигурд отвечает и говорит, что охраняют его конунги. Регин спросил:
— Крепко ли ты им веришь?
Сигурд отвечает:
— Надлежит им хранить его, пока мне не понадобится, потому что лучше они сберегут его, чем я.
В другой раз повел Регин беседу с Сигурдом и молвил:
— Дивно мне, что ты хочешь стать конюхом у конунгов и жить как приблудный.
Сигурд отвечает:
— Это не так, потому что мы сообща всем заправляем. И они дают мне все, что я захочу.
Регин молвил:
— Попроси их дать тебе коня.
Сигурд отвечает:
— Будет так, если я пожелаю.
Тут идет Сигурд к королю. Король спросил Сигурда:
— Чего ты от меня хочешь?
Сигурд отвечает.
— Хотим мы получить коня себе на забаву.
Конунг молвил.
— Выбери себе сам коня, какого захочешь, из нашего табуна.
На другой день пошел Сигурд в лес и встречает он старика с длинной бородой, и был он ему незнаком. Старик спросил, куда Сигурд идет. Тот ответил:
— Надо мне выбрать коня. Присоветуй мне.
Тот молвил:
— Пойдем и погоним коней к реке, той что зовется Бусилтьорн.
Они стали гнать коней в глубокое место реки, а те поплыли обратно к берегу, кроме одного жеребца, и его-то взял себе Сигурд. Тот жеребец был серой масти и молод годами, велик ростом и красив собой; никто еще не садился к нему на спину Бородатый человек молвил:
— Этот жеребец происходит от Слейпни, и тщательно надо его взрастить, чтобы стал он всех коней лучше.
И тут человек исчез. Сигурд назвал коня Грани, и был тот конь превосходен: Один его выбрал.
Снова молвил Регин Сигурду:
— Очень мало у тебя добра. И мне это обидно, что ты бегаешь, как деревенский парнишка; а я могу показать тебе великое сокровище, и уж верно то, что будет тебе честь и хвала до него добраться, если сумеешь.
Сигурд спросил, где оно находится и кто его стережет. Регин отвечает:
— Фафни зовется тот, кто лежит на нем неподалеку отсюда, в месте, коему имя Гнитахейд, И когда ты придешь туда, то сам скажешь, что никогда не видал больше золота в одном месте и не надо тебе больше того, хоть бы ты стал всех королей и старше, и славнее.
Сигурд отвечает:
— Известен нам род этого змея, хоть и молоды мы еще, и слышал я, что никто не смеет супротив него выйти ради величины его и злости.
Регин отвечает:
— Это не так, рост его — как у степных змеев, и больше о нем говорят, чем есть на деле, и могло так показаться давним твоим предкам. А ты хоть и из рода Волсунгов, но, видно, не ихний у тебя нрав, ибо они считались первыми во всех похвальных делах.
Сигурд отвечает:
— Может то быть, что мало у нас от их богатства и крепости. А все же тебе нечего нас хулить, пока мы малы и в детских летах. И зачем ты так сильно меня подстрекаешь?
Регин отвечает:
— Есть о том сага, и я тебе ее поведаю.
Сигурд молвил:
— Дай мне послушать.
— С того начинается сага эта, что Хрейдмаром звался мой отец, великий и богатый. Один сын его звался Фафни, другой — Отр, а третий был я, и был я всех меньше и в мастерстве, и в проворстве: умел я из железа поделки делать, и из серебра, и из золота, и каждый раз я мастерил что-нибудь новое. У Отра, брата моего, другая была стать и природа он был ловец великий, превыше всех людей, и днем он ходил в образе выдры и все время плавал в воде и зубами ловил рыбу. Добычу относил он отцу, и было это тому большой подмогой. Очень он был похож на выдру; приходил вечером домой и ел, зажмурившись, и поодаль от всех, так как плохо видел на суше. Фафни был всех больше и свирепее, и хотел он назвать своим все, что у нас было. <...> Затем убил Фафни отца своего, — сказал Регин, — и зарезал его, а я ничего не получил от богатства. Стал он так свиреп, что ушел от людей и не хотел, чтобы кто-нибудь насладился кладом тем, кроме него самого, а после обернулся он лютым змеем и лежит теперь у этого клада. Пошел я тогда к конунгу и стал у него кузнецом. И в том суть моего сказа, что остался я без отчины и без виры за брата. Золото с тех пор прозвано «вира за выдру», и отсюда извлекают сравнения.
Сигурд отвечает
— Многого ты лишился, и великие злодеи были твои родичи. Скуй ты теперь меч по своему уменью, чтоб равного ему никогда сковано не было, а я совершу великое дело, если смелости хватит и если ты хочешь, чтобы я убил большого того дракона.
Тогда Регин смастерил меч и дает его Сигурду. Тот принял меч и молвил:
— Такова ли твоя ковка, Регин? — И ударил по наковальне и разбил меч. Он выбросил клинок тот и приказал сковать новый, получше. Смастерил Регин другой меч и дал Сигурду, и тот на него взглянул.
— Этот тебе уж верно понравится, хоть и трудно тебе угодить.
Сигурд испытал этот меч и сломал, как и прежний. Тогда молвил Сигурд Регину:
— Видно, ты похож на древних своих родичей и очень коварен.
Тут пошел он к своей матери, и она хорошо его принимает, и вот они друг с другом беседуют и пьют. Молвил тогда Сигурд:
— Правду ли мы слыхали, будто Сигмунд-конунг отдал вам меч Грам, надвое сломанный?
Она отвечает:
— Это правда.
Сигурд молвил:
— Отдай его в мои руки! Я хочу им владеть.
Она сказала, что он обещает быть славным воином, и дала ему меч тот. Тут пошел Сигурд к Регину и приказал ему починить меч по своему уменью. Регин рассердился и пошел в кузницу с обломками меча, и думает он, что трудно угодить Сигурду ковкой. Вот смастерил Регин меч, и, когда вынул он его из горна, почудилось кузнечным подмастерьям, будто пламя бьет из клинка. Тут велит он Сигурду взять меч тот, а сам говорит, что не может сковать другого, если этот не выдержит. Сигурд ударил по наковальне и рассек ее пополам до подножья, а меч не треснул и не сломался. Он сильно похвалил меч и пошел к реке с комком шерсти, и бросил его против течения, и подставил меч, и рассек комок пополам. Тогда Сигурд весело пошел домой.
Регин молвил:
— Нужно теперь выполнить наш уговор, раз я сковал меч, — и разыскать Фафни.
Сигурд отвечает:
— Выполним мы это; но сперва — другое: отомщу я за отца своего.
Тем дороже был Сигурд народу, чем старше он становился, так что каждый ребенок любил его от всего сердца. <...> А когда Сигурд побыл дома малое время, приходит Регин на беседу с Сигурдом и говорит:
— Верно, хотите вы теперь, как обещали, скинуть с Фафни шлем тот, раз вы отомстили за отца и прочих своих родичей?
Сигурд отвечает:
— Исполним мы все, как обещали тебе, и не выпало у нас это из памяти.
Вот едут Сигурд и Регин в пустынные горы, к той тропе, по которой обычно проползал Фафни, когда шел на водопой, и сказывают, что с тридцать локтей был тот камень, на котором лежал он у воды, когда пил.
Тогда промолвил Сигурд:
— Сказал ты, Регин, что дракон этот не больше степного змея, а мне сдается, что следы у него огромные.
Регин молвил:
— Вырой яму и садись в нее, а когда змей поползет к воде, ударь его в сердце и так предай его смерти; добудешь ты этим великую славу.
Сигурд молвил:
— Как быть, если кровь змея того зальет меня? Регин отвечает:
— Нечего тебе и советовать, раз ты всего пугаешься, и не похож ты отвагою на своих родичей.
Тут поехал Сигурд в пустыню, а Регин спрятался от сильного страха. Сигурд выкопал яму; а пока он был этим занят, пришел к нему старик с длинной бородой и спросил, что он делает, и Сигурд ему сказал. Отвечает ему старик:
— Это дурной совет: вырой ям побольше, чтобы кровь туда стекала, а ты сиди в одной и бей змея того в сердце.
Тут старик исчез, а Сигурд выкопал ямы, как было сказано. А когда змей тот пополз к воде, то задрожала вся округа, точно сотряслась земля, и брызгал он ядом из ноздрей по всему пути, но не устрашился Сигурд и не испугался этого шума. А когда змей проползал над ямой той, вонзил Сигурд меч под левую ключицу, так что клинок вошел по рукоять. Тут выскакивает Сигурд из ямы той и тянет к себе меч, и руки у него — все в крови по самые плечи. И когда огромный тот змей почуял смертельную рану, стал он бить головой и хвостом, дробя все, что под удар попадало. И когда принял Фафни смертельную рану, стал он спрашивать:
— Кто ты таков, и кто твой отец, и какого ты роду, что дерзнул занести на меня оружье?
Сигурд отвечает:
— Род мой неведом, и имя мне — Статный Зверь, и нет у меня ни отца ни матери, и один совершил я путь.
Фафни отвечает:
— Если нет у тебя ни отца ни матери, то от какого же чуда рожден ты? И если ты скрываешь от меня имя свое в смертный мой час, то знай, что ты — лжец.
Тот отвечает:
— Называюсь я Сигурд, а отец мой — Сигмунд.
Фафни отвечает:
— Кто подговорил тебя на это дело и как дал ты себя подговорить? Разве ты не слыхал, что все люди боятся меня и моего шлема-страшилища? Остроглазый отрок, отважен был твой отец.
Сигурд отвечает:
— Подстрекнул меня крепкий дух, а совершить помогли эта мощная длань и этот мой острый меч, как ты теперь изведал; и редко в старости стоек, кто в детстве дрябл.
Фафни говорит:
— Знаю я, что если бы взращен ты был в роду своем, то умел бы биться грозно; но большое диво, что кащей полоненный отважился биться со мною, ибо редко пленник отважен в поле.
Сигурд молвил:
— Попрекаешь ты меня тем, что возрос я вдали от рода. Но хоть был я взят на войне, никогда я не был рабом, и ты на себе испытал, что я — свободнорожденный.
Фафни отвечает:
— За обиду принимаешь ты все, что я говорю. Но будет тебе на погибель золото то, которым я владел.
Сигурд отвечает:
— Всяк в добре своем властен лишь по некий день, и когда-нибудь всякий умрет.
Фафни молвил:
— Мало, сужу я, ты совершишь, коль опрометчиво выйдешь в море, а лучше пережди на берегу, пока уляжется ветер.
Сигурд молвил:
— Скажи ты мне, Фафни, если ты премудр: каковы те норны, что метят детей при родах?
Фафни отвечает:
— Много их, и различны они по роду: иные — из асов, иные — из алфов, иные — дочери Двалина.
Сигурд молвил:
— Что за остров, где будут брагу мечей смешивать Сурт и асы?
Фафни отвечает:
— Он зовется Оскапт. — И еще молвил Фафни: — Регин-брат — виновник моей смерти, и так сдается мне, что станет он виновником и твоей смерти и все идет, как он пожелал.
Еще молвил Фафни:
— Я носил шлем-страшилище перед всем народом, с тех пор как лежал на наследии брата, и брызгал я ядом на все стороны вдаль, и никто не смел приближаться ко мне, и никакого оружия я не боялся, и ни разу не видел я пред собой стольких людей, чтоб не считал я себя много сильнее их; и все меня страшились.
Сигурд молвил:
— Тот шлем-страшилище, о коем ты говоришь, мало кому дает победу, ибо всякий, кто встречается со многими людьми, познает однажды, что самого смелого — нет.
Фафни отвечает:
— Мой тебе совет, чтобы ты сел на коня и ускакал отсюда как можно скорее, ибо часто случается, что тот, кто насмерть ранен, сам за себя отомстит.
Сигурд сказал:
— Такой твой совет, но я поступлю иначе; поскачу я к твоему логову и возьму великое то золото, которым владели родичи твои.
Фафни отвечает:
— Поедешь ты туда, где найдешь так много золота, что скончает оно твои дни; и это самое золото будет тебе на погибель и всякому другому, кто им завладеет.
Сигурд встал и молвил:
— Поехал бы я домой, хоть бы и лишился великого этого богатства, если бы знал, что никогда не умру. И отважнейший воин властен над золотом по некий суженый срок. Ты ж, Фафни, майся в предсмертных муках, и пусть тебя примет Хел.
И тут умер Фафни.
После этого пришел Регин к Сигурду и молвил:
— Благо тебе, господин мой! Великую победу ты одержал, убивши Фафни, и до сей поры никто не дерзал стать ему поперек дороги, и этот подвиг будут помнить, пока свет стоит.
Вот стоит Регин и глядит в землю, а затем говорит в великом гневе:
— Брата моего ты убил, и вряд ли я непричастен к этому делу.
Тут берет Сигурд свой меч Грам и вытирает о траву и молвит Регину:
— Далеко ушел ты, когда я совершил это дело и испытал этот острый меч своею рукою; и своею мощью поборол я силу змея, покуда ты лежал в степном кустарнике и не знал, ни где земля, ни где небо.
Регин отвечает:
— Долго пролежал бы этой змей в своем логове, если бы ты не владел мечом, что сковал я тебе своею рукою, и не совершил ты этого один без чужой помощи.
Сигурд отвечает:
— Когда доходит до боя между мужами, лучше тут служит человеку храброе сердце, чем острый меч.
Тогда молвил Регин Сигурду в великой печали:
— Ты убил моего брата, и вряд ли я непричастен к этому делу.
Тут вырезал Регин сердце у змея тем мечом, что звался Ридил; тут испил Регин крови Фафни и молвил:
— Исполни мою просьбу; для тебя это — легкое дело: пойди к костру с сердцем этим, изжарь его и дай мне поесть.
Сигурд пошел и стал жарить на вертеле, а когда мясо зашипело, он тронул его пальцем, чтоб испытать, хорошо ли изжарилось. Он сунул палец в рот, и едва сердечная кровь попала ему на язык, как уразумел он птичий говор.
Услышал он, как сойки болтали на ветвях подле него:
— Вот сидит Сигурд, жарит сердце Фафни, что сам бы он должен был съесть. Стал бы он тогда мудрее всех людей.
Другая говорит:
— Вот лежит Регин и хочет изменить тому, кто во всем ему доверяет.
Тут молвила третья:
— Лучше бы он отрубил ему голову: мог бы он тогда один завладеть золотом этим несметным.
Тут молвит четвертая:
— Был бы он разумнее, если бы поступил так, как они ему советуют, а затем поехал к логову Фафни и взял несметное то золото, что там лежит, а после поскакал бы на Хиндарфьалл, туда, где спит Брюнхилд, и может он там набраться великой мудрости. И был бы он умен, если бы принял наш совет и думал бы о своей выгоде, ибо волка я чую, коль вижу уши.
Тут молвила пятая:
— Не так он быстр рассудком, как мне казалось, раз он сразил врага, а брата его оставляет в живых.
Тут молвила шестая:
— Ловко было бы, если бы он его убил и один завладел богатством.
Тут молвил Сигурд:
— Да не будет такой напасти, чтобы Регин стал моим убийцей, и пусть лучше оба брата пойдут одной дорогой.
Взмахнул он тогда мечом тем Грамом и отрубил Регину голову, а затем съел он часть змеиного сердца, а часть сохранил. После вскочил он на коня своего и поехал но следам Фафни к его пещере и застал ее открытой. И из железа были двери все и также все петли и ручки, и из железа же все стропила постройки, и все это — под землей. Сигурд нашел там многое множество золота и меч тот Хротга, и там взял он шлем-страшилище, и золотую броню, и груду сокровищ. Он нашел там так много золота, что, казалось, не снесут ни двое коней, ни трое. Это золото он все выносит и складывает в два огромных ларя.
Вот берет он под узды коня того Грани. Конь тот не хочет идти, и понукание не помогает. Тут Сигурд понял, чего хочет конь: вскакивает он ему на спину, дает шпоры — и мчится тот конь, словно совсем без ноши.
ПОГРЕБЕНИЕ КОРОЛЯ
«Беовульф» — поэма удивительно симметричная, она открывается описанием похорон короля — основателя династии Скильдингов — и заканчивается сценой погребения Беовульфа. Следует отдать должное двум монахам, записавшим поэму, когда один не только принял эстафету из рук другого, но и попытался в полной мере развить те мотивы, которые были заложены в начале, предложив для каждого из них свою аналогию. Описанный в первой песне обряд известен, но столь подробный рассказ о сожжении погребальной ладьи весьма редко встречается в средневековой литературе. Сохранилась запись Саксона Грамматика о законах относительно погребения, введенных королем Фроди III («Деяния датчан», кн. V, 8.1):
«И вот Фроди, собрав народы, которые он покорил, установил закон о том, что каждый отец семейства, погибший в битве, должен быть похоронен вместе со своим конем, в полном вооружении и со знаками отличия. И ежели кто из жадных грабителей совершит акт злодейства, то оный не только поплатится за это кровью, но и свой труп лишит погребения, ибо после этого может не надеяться ни на костер, ни на могилу. Ибо он верил, что потревоживший чужой прах должен за это вовсе лишаться похорон и таким .образом испытать на собственной шкуре ту участь, на которую обрек, другого. И еще установил, что для тела центуриона или сатрапа погребальным костром должен быть его собственный корабль. И еще он предписал, чтобы тела управителей предавались огню на одном корабле десятком, но каждого убитого герцога или короля сжигали, поместив на свой корабль. Он желал тщательного соблюдения обычая придавать сожжению убитых, чтобы не было произведено беспорядочных похорон».
Отрывок звучит парадоксально, поскольку Саксон попытался использовать древнеримскую терминологию, чтобы придать своей речи изысканность и возвышенность. Обряд не был определенным или жестко детерминированным. Тот же самый Саксон Грамматик пишет:
«Погибшему в том сражении Гельдеру, королю саксов, поместив труп сверху на тела его гребцов, он [Хотер] устроил подобающие похороны, сложив из кораблей погребальный костер. Их пепел, равно как и королевские останки, не только были преданы им погребению, но это было сделано с подобающими почестями» («Деяния датчан», кн. III, 2.11).
Выходит, иногда костер устраивали на берегу, не отправляя ладью прямо в море. Порою сожжение корабля становилась не только заупокойной церемонией, но и ритуальным самоубийством. Так, среди выписок Аригрима Йонссона из «Перечня королей Швеции» (этот скандинавский источник сохранился только в переводе на латынь XVI—XVII вв.) помещен рассказ, несомненно производящий драматическое впечатление:
«После смерти Альфхильды Сигурд1 решил заключить брак снова. И вот, когда он проезжал через Вестроготию, одну из областей своего королевства, в Викен, область королевства Норвегии, чтобы исполнить в Скирингссале положенные языческие обряды, ему на глаза попалась прекрасная дева Альфсоль, дочь короля Альфи от Виндлы. Он увидел ее и возжелал, а, возжаждав, захотел отведать, даже став ненавистным богам во всем. У нее были братья — Альф, носивший отцовское имя, и Ингвон, и Сигурд попросил у них сестру себе в жены. Они же отказались отдавать прекрасную девушку замуж за старого короля. Воспламенившись оттого, что он, будучи единоличным правителем, оказался отвержен королевскими детьми, стал угрожать войной, однако в священном месте не пристало обнажать железо. Прошло немного времени, и он все же вызвал братьев на битву. Они хоть и были крепки телом и духом, однако, зная о многочисленности войска Сигурда, перед тем как отправиться сражаться, дали выпить сестре яду, чтобы она не стала добычей победителя. В жестокой битве погибли Альф и брат его Ингвон, Сигурд же был тяжело ранен. Когда перед ним оказался труп Альфсоли, он сложил на большой корабль тела мертвецов, взошел на него единственным из живых2, взял с собою мертвую Альфсоль, приказал поджечь смолу и серу и, подняв парус, который наполнился попутным ветром, повел корабль прочь. Так виновник подобных деяний, властитель стольких королевств, по обычаю своих предков, предпочел скорее направить корабль во владения Одина (то есть в Преисподнюю), чем дожидаться своей смерти в немощной старости, и, подняв совершившие столько зла руки, он попрощался с теми, кто остался позади на берегу, однако некоторые утверждают, что, перед тем как покинуть берег, он пронзил себя своею десницей На берегу он приказал насыпать себе курган, который повелел назвать Рингсхауг, сам же, оказавшись во власти бурь, вскоре погрузился в воды Подземного царства».
2 Подобную историю рассказывает и Снори Стурлусон в «Саге об Инглингах» (см. гл. XXIII) «Хаки конунг был так тяжело ранен, что, как понимал, ему оставалось недолго жить Он велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормило, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки» (пер. М. И Стеблина-Каменского).
Дж. Р. Р. Толкин, непосредственно в своей лекции не затронувший тему ритуального самоубийства короля, всходящего на костер, обращается к ней в художественной литературе. В эпизоде с кончиной Денетора мы можем увидеть еще один пример решения Толкином-писателем проблем, которыми занимается Толкин-ученый. Все, что происходит в склепе: сомнения слуг Денетора, вмешательство хоббита Пиппина, выбор, который приходится сделать Берегонду, — представляет собой воплощение в реальности ofermod как повествовательного мотива, парадигмы поведения литературного персонажа Дж. Р Р Толкин ищет средства, которые могли бы позволить героям повествования избежать печальной участи подданного, обрекающего себя на смерть из повиновения своему предводителю, и, надо сказать, справляется с этой задачей успешно. Средиземье неоднократно становилось исследовательским полигоном профессора Толкина, и, возможно, с этим связана особая притягательность его книг для поклонников ролевых игр.
ГЕНЕАЛОГИИ
«Беовульф» вовсе не столь одинок, сколь это может показаться на первый взгляд. Несмотря на то что иных поэм длиной в 3000 строк до нас не дошло, герои «Беовульфа» сражаются в «Битве при Финнсбурге» (оригинал не сохранился, и исследователи вынуждены полагаться на текст, опубликованный в 1705 г Джорджем Хикксом), многие короли перечислены в знаменитой поэме «Видсид» (записанной на страницах «Эксетерской книги», XI в.) — одном из наиболее ранних (судя по языку) памятников древнеанглийской литературы. Упоминание в «Видсиде» об Александре Великом в самом начале длинного перечня королей и народов согласуется с тем, что «Послание Александра Аристотелю о чудесах Индии» и «Беовульф» оказались в одной рукописи, — так, имена македонского царя и правителя Хеорота фактически дважды оказываются на соседних страницах. Сказитель «Видсида» называет Оффу, Хнафа Скильдинга, Ингельда, Хаму, Хродульфа и Хродгара, Фина, Гудлафа с Ослафом, Хенгеста, Эорманрика (или Германариха) — все они герои, либо жившие, либо прославленные в дни Беовульфа1. Для поэмы исключительно важен контекст2, сложные хитросплетения родственных связей предводителей различных племен3. Именно поэтому ниже приводятся генеалогии4 данов и гаутов, а также их союзников и недругов.
2 Мир «Беовульфа» связан также и с традицией «Старшей Эдды» Из преданий о богах приходят «меч и кольчуга работы Вилунда» (см. «Песнь о Вилунде») и «ожерелье Бросинга» (примечательно, что это женское украшение дважды оказывается на шее мужчины — в «Песне о Трюме» «Тору надели, / брачный убор, / украсили грудь / ожерельем Бросингов», а в «Беовульфе» король гаутов Хигелак отправляется за море, надев на себя ожерелье, которое после его гибели достается франкам).
3 Примечательно, и на этом Дж. Р. Р. Толкин фиксирует внимание своих читателей, что Беовульф перед смертельным подвигом признается, что он не убил никого из родственников (редкое для его окружения благородство). Из противников, сраженных Беовульфом в бою, нам известно имя франка Дагхревна, «ворона дня».
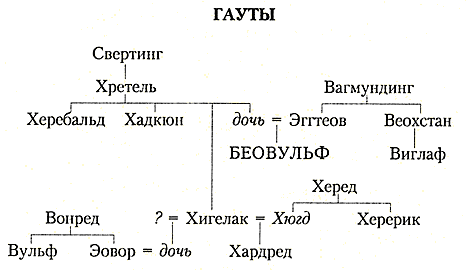
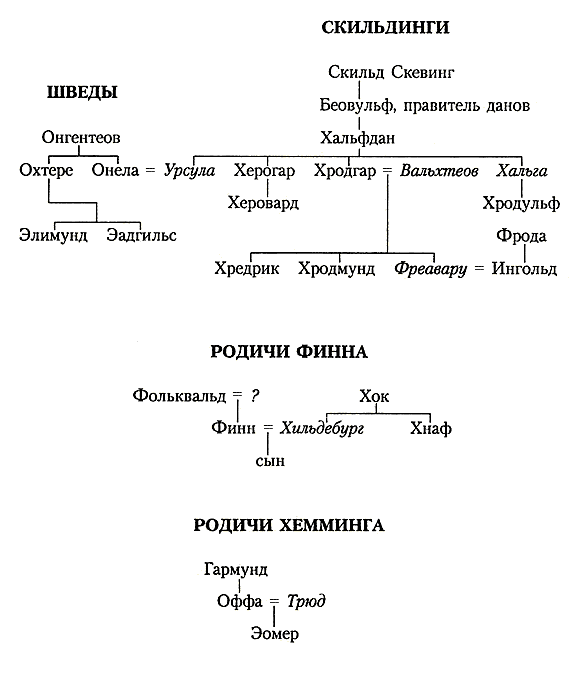
Сэр Гавейн
и
Зеленый рыцарь
Приглашение прочесть лекцию в этом старинном университете для меня большая честь, тем более под эгидой имени столь выдающегося ученого, как У. П. Кер. Однажды мне было позволено поработать некоторое время с принадлежавшим ему экземпляром рукописи «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря». И я воочию убедился, что он (как это было ему свойственно, несмотря на необозримый круг его чтения и большой объем проводившихся им литературных штудий) читал эту рукопись самым внимательным образом.
Поэма, о которой пойдет сегодня речь, и впрямь заслуживает самого пристального внимания и детального рассмотрения, а после (но не до, как слишком часто поступают некоторые критики) — тщательного обдумывания еще и еще раз. Это одно из самых выдающихся литературных произведений, созданных в Англии в четырнадцатом веке и в английской литературе вообще. Поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» — из числа тех великих произведений, которые до сих пор благополучно выдерживали не только уничижение со стороны различных школ, но и превращение себя в «текст», более того (а это — самое суровое испытание) в «выверенный текст», — однако все больше и больше сгибаются под этой тяжестью. Ибо эта поэма принадлежит к литературным творениям, которые уходят корнями глубоко в прошлое, причем куда глубже, нежели осознавал и сам ее автор. Она создана на основе историй, имевших хождение давно и в иных местах и составлена из элементов, перекочевавших в нее из стародавних времен, о которых поэт едва ли имел адекватное представление, а то и вовсе никакого. Таков «Беовульф», таковы некоторые знаменитые пьесы Шекспира, скажем «Король Лир» или «Гамлет».
Разумеется, интересен вопрос, чем именно привлекательна атмосфера подобных «глубоко укорененных» произведений, в чем их особые достоинства и особый «вкус» и чем компенсируются неизбежные изъяны и несуразности, возникающие, когда замысел, мотивы и символика ставятся на службу изменившемуся сознанию более позднего времени и используются для выражения идей, совершенно отличных от тех, которыми эти произведения были порождены первоначально Однако, хотя текст «Сэра Гавейна» очень подошел бы как основа для дискуссии по этому вопросу, сегодня я намерен вести речь о вещах несколько иного рода. Я не намерен касаться исследований относительно истоков этой истории или ее деталей, равно как заниматься вопросом, в каком именно виде эти детали дошли до автора нашей поэмы, перед тем как он взялся за работу. Я хочу поговорить о том, как обошелся он с имевшимся под рукой материалом, точнее, о том, какая идея двигала им, когда он писал и (в чем я не сомневаюсь) переписывал поэму, пока она не приобрела тот вид, в котором дошла до нас. Не стоит забывать и другое. Подобно живописному многосюжетному заднику, на сцене постоянно присутствует древность. На третьем плане нашей поэмы прохаживаются персонажи более ранних мифов, в ее строках слышится эхо древних культов, верований и символики, весьма далеких от мировосприятия образованного моралиста (но и поэта), жившего в конце четырнадцатого века. Его поэма вовсе не об этих древних вещах, хотя и обязана им частицей своей жизни, живости и увлекательности. Это характерно для всех великих волшебных историй, одной из которых она и является. Едва ли сыщется лучшее средство для поучения, нежели старая добрая волшебная история (я имею в виду по-настоящему «глубоко укорененную» историю, рассказанную именно как история, а не как тонко завуалированная поучительная аллегория). И автор «Сэра Гавейна», по-видимому, прекрасно понимал это или, скорее, чувствовал — инстинктивно, безотчетно: он был все-таки человеком четырнадцатого века, века глубокомысленного, дидактичного и склонного к энциклопедичности (не стану говорить, к педантизму), а потому скорее получил faerie1 по наследству, нежели выбрал сам.
Далее, из всего многообразия новых тем, о которых можно было бы сообщить нечто нетривиальное (а таких тем много даже теперь, несмотря на то что поэма выдержала несколько изданий, вышла в нескольких переводах и является предметом дискуссий и многочисленных научных статей), — взять хотя бы Игру с Отрубанием Головы, Опасного Хозяина, Зеленого Человека или мифическую солнцеподобную фигуру, которая маячит за спиной учтивого Гавейна, племянника короля Артура (хотя не так отчетливо, как Юноша-Медведь — за спиной Беовульфа, племянника короля Хигелака, но с той же непреложностью); или, скажем, можно было бы поговорить в этой связи о «влиянии Ирландии на Британию» или их обеих на Францию, и наоборот; или, возвращаясь в эпоху нашего автора, поднять тему «аллитерационного возрождения» и включиться в нынешнюю дискуссию о том, как проявлялось это возрождение в повествовательном жанре, при том что ныне примеров этого почти не сохранилось, если не считать слабого эха в «Сэре Гавейне» и у Чосера (который, думаю, был знаком с этой поэмой, а возможно, и с ее автором), — из всего этого многообразия и из всех прочих тем, которые можно было бы обсудить в связи с поэмой «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», я затрону лишь одну. Эту тему не балуют вниманием, однако я убежден, что она имеет принципиальное значение. Речь о ядре поэмы в ее окончательной авторской редакции, о пространной Песне Третьей, которая повествует об искушении сэра Гавейна и о его исповеди. Само собой разумеется, обсуждение этого предмета — темы искушения и исповеди Гавейна — предполагает знакомство с поэмой, будь то в подлиннике или в переводе1. Когда понадобится привести цитату, я буду цитировать собственный, недавно завершенный перевод. Мне кажется, это будет лучше всего, поскольку, создавая этот перевод, я преследовал двоякую цель (которой, надеюсь, в определенной степени достиг): сохранить аллитерации и стихотворный размер (иначе зачем было и переводить, сгодился бы и подстрочник), а также сохранить и посредством современных средств выражения вразумительно передать благородство и изысканность этой поэмы, сотворенной поэтом, для которого куртуазные рьщарственность и учтивость были далеко не пустым звуком.
Поскольку я не буду говорить ни о поэме в целом, ни о ее восхитительном построении, я должен отметить один весьма важный для меня момент. Поэма состоит из четырех глав, или Песен. При этом Песня Третья объемнее остальных и занимает значительно больше четверти всей поэмы (872 строки, при том что всего в поэме 2530 строк). Это своего рода числовой показатель того, что именно представляет для поэта подлинный, первичный интерес. Мало того, Песня Третья могла бы быть еще больше, если бы автор не предпринял попытку затушевать это столь очевидное количественное свидетельство, искусно, но все-таки искусственно переместив в Песню Вторую часть текста, которому по сюжету надлежит быть в Песне Третьей. Искушение сэра Гавейна начинается фактически уже в строфе 39 (строка 928)1 (если не раньше) и в целом занимает более тысячи строк. По сравнению с этим все остальное второстепенно, хотя и в высшей степени живописно. В искушении Гавейна для нашего поэта заключается весь смысл поэмы; все прочее для него лишь театральные декорации и машинерия, необходимые, чтобы поместить сэра Гавейна в интересующую поэта ситуацию.
Поэтому мне придется вкратце напомнить вам, что этой ситуации предшествовало. Заставкой служит довольно бегло нарисованная картина великолепного Двора короля Артура во время главного праздника в году (у англичан), в разгар рождественского пира. Во время обеда в первый день Нового года в пиршественном зале появляется некий всадник, огромный Зеленый Рыцарь на зеленом коне, с зеленым топором, и бросает вызов: пусть тот, у кого достанет храбрости, возьмет топор и нанесет Зеленому Рыцарю удар (а Рыцарь не станет защищаться). Однако ровно через год и один день нанесший удар обязывается предоставить Зеленому Рыцарю возможность нанести ответный удар (и тоже не станет защищаться).
Вышло так, что вызов принял сэр Гавейн. И здесь я хочу отметить одну важную деталь. Уже с самого начала можно ощутить, что поэт ставит перед собой морализаторскую задачу. По крайней мере, когда перечитаешь поэму, в этом, по здравом размышлении, сомнений не остается. Гавейн проходит через искушение. Поэтому необходимо, чтобы его поступки могли получить нравственную оценку, и даже в гуще волшебных событий автор всячески старается показать, что у них это необходимое «нравственное» измерение есть.
Гавейн принимает вызов, чтобы вызволить короля из ложного положения, в котором тот оказался вследствие своей опрометчивости1. Гавейном движет не гордыня, не желание показать свою удаль, не хвастовство и даже не рыцарское легкомыслие, частенько подталкивающее рыцарей посреди шумного рождественского застолья на заключение самых абсурдных пари и на любые клятвы. Гавейном движет нечто куда более скромное — он рвется защитить Артура, своего старшего родича, короля и главу Круглого Стола, спасти его от позора и опасности, рискуя собой, — по его словам, самым незначительным из рыцарей, потерю которого переживут легче всего. Таким образом, Гавейна вовлекают в это предприятие исключительно долг, сострадание и самопожертвование — минимум мотива, но этого достаточно, чтобы волшебная история продолжила свой ход. А поскольку от абсурдности вызова Зеленого Рыцаря никуда не деться — а в морализаторской истории, где будут исследованы серьезные нравственные проблемы и где будет дана оценка каждому поступку главного, героя, Гавейна, он совершенно абсурден, — поведение самого короля осуждается не только автором, но и придворными лордами2.
|
«..Arthur would not eat until аll were served; his youth made him so merry with the moods of a boy, he liked lighthearted life, so loved he the less either long to be lying or long to be seated: so worked on him his young blood and wayward brain. And another rule moreover was his reason besides that in pride he had appointed: it pleased him not to eat upon festival so fair, ere he first were apprised of some strange story or stirring adventure... or a challenger should come a champion seeking to join with him in jousting, in jeopardy to set his life against life, each allowing the other the favour of fortune, were she fairer to him. This was the king's custom... at each famous feast» |
Как бы идя навстречу желанию «короля-юноши», в пиршественной зале появляется Зеленый Рыцарь и вопрошает (строфа 11): кто здесь главный? Король вскакивает навстречу гостю, и тот заверяет, что пришел с миром (на нем нет доспехов, и в руке у него символическая веточка остролиста), — он-де хочет предложить рыцарям сыграть с ним в веселую игру. Однако Артур, словно не слышав его слов, восклицает: «...if battle thou seek thus bare, / thou'lt fail not here to fight» («...если ты вот так, не вооружившись, ищешь драки, ты получишь то, чего хочешь»). Заявление не вполне рыцарское: Артур удостоверяет гостя, что его рыцари, если потребуется, вступят в бой и с безоружным противником, однако в свете рыцарского кодекса такое заявление — просто скандал. Тем более что Рыцарь уже сказал, что его истинная цель — проверить: действительно ли Артурово рыцарство такое славное, как о нем толкуют. И наконец Рыцарь излагает достаточно провокационные условия своей игры (опять-таки тому, кто примет условия, придется фактически убить на месте безоружного и ни в чем не повинного человека, а Рыцарь описан все-таки как человек, хотя и очень большой, и, скорее, на взгляд присутствующих, aluish («эльфийский»), не как сказочный великан). Рыцари медлят с ответом, причем, по-видимому, не из трусости, а из нежелания поддаться на провокацию. А Рыцарю того и надо — он начинает издеваться над Артуровым Двором и его «дутой славой». Однако «король-юноша», очевидно, не понимает этой игры оттенков и, не дождавшись ответа рыцарей, заявляет, что примет предложение сам (строфа 15) и уже хватается за топор Рыцаря, которым предполагалось нанести гостю удар. Этим Артур дискредитирует как благородное замешательство своих рыцарей, давая понять, что, как и гость, считает его позорной трусостью, так и самого себя, поскольку королю, да еще такому, как Артур, главе Круглого Стола, носителю и утвердителю рыцарских обычаев, мальчишеские («child-gered») (строка 86), спонтанные реакции не подобают. Однако тут вмешивается Гавейн и перенимает вызов. Кстати, Гавейн — племянник Артура и заведомо намного младше его... Однако автор настаивает на молодости и даже юности Артура. В артуровской традиции нет оснований для создания подобного образа короля, поэтому ответственность за его создание, как считают, целиком и полностью лежит на авторе поэмы.
Когда Гавейн вызывается «сыграть» с рыцарем вместо короля, король соглашается сразу, — все же, по-видимому, он чувствовал: что-то или все идет не так, как надо. При этом он говорит Гавейну, в переводе на современный язык, примерно следующее: «Дай этому нахалу как следует, чтобы уже не встал» — король потерял всякую сдержанность и дал полную волю гневу и раздражению.
Есть еще один момент, к которому мы вернемся позже. Дело в том, что Гавейн с самого начала оказывается обманут или, по крайней мере, пойман в ловушку. Гавейн принимает вызов и наносит свой удар, заявив: «...что бы ни было потом» («...quat-so bifallez after»1), через год он предстанет перед Зеленым Рыцарем, причем лично, без замены и помощников, и получит ответный удар оружием, которое тот выберет сам. Приняв же вызов, Гавейн узнает, что, оказывается, он сам должен отыскать Зеленого Рыцаря и «расплатиться» с ним там, где тот обитает, то есть в неком неназванном месте. Гавейн принимает и это, уже чрезмерное, условие. Когда же он наносит свой удар и отрубает голову Зеленому Рыцарю, ловушка захлопывается, так как Рыцарь остается жив. Он подбирает отрубленную голову, садится на коня и уезжает, но перед этим поднимает в руке свою ужасную голову, и та напоминает Гавейну его клятву.
Для нас в этом нет ничего удивительного, равно как, разумеется, не было и для аудитории нашего поэта. Раз уж нам представили зеленого человека, с зелеными волосами и зеленым лицом, на зеленом коне, при Дворе короля Артура, мы вправе заподозрить, что тут не обошлось без волшебства. Естественно, «заподозрили», надо полагать, во всем этом «волшебство» и Артур с Гавейном, о чем в тексте говорится уже впрямую. То же самое относится ко всем, кто присутствовал на пиршестве: «...об эльфах и призраках это напомнило»1 (11. 240). Но поэт преподносит всю эту историю и ее машинерию как данность, с тем чтобы заняться в дальнейшем проблемами нравственности, возникающими, в частности, в связи с поступками сэра Гавейна. И в особенности занимает нашего поэта проблема верности слову (lewte2). Поэтому чрезвычайно важно с самого начала уяснить отношения между Зеленым Рыцарем и Гавейном и саму природу их обоюдного договора, как если бы мы имели дело с самым обычным, не содержащим ничего невероятного соглашением между двумя «джентльменами». И соответственно, поэт, как я полагаю, всячески старается подчеркнуть, что «волшебная» подоплека вызова, которой имело, конечно, смысл опасаться с самого начала, была Зеленым Рыцарем при заключении соглашения утаена. Соответственно, король принимает вызов за чистую монету, то есть за неприкрытое безумие, ведь Зеленый Рыцарь фактически требует убить его на месте. И чуть позже, когда Гавейн готовится нанести свой удар:
|
Руби прямо, — король рек, — одним ударом. Когда умника ты проучишь, я знаю точно, Тебе нипочем будет любой удар его. (17. 372–4)
|
2 Среднеангл.
Итак, Гавейн принял условия с открытой душой и доверием к Провидению, — по его словам, quat-so bifallez after1, однако его противник утаил одно немаловажное обстоятельство: его просто так не убьешь, он защищен волшебством. В итоге Гавейн ввязался в опасное приключение и вступил на путь, в конце которого его ожидала неизбежная гибель, поскольку волшебной защиты он был лишен (по крайней мере, пока). Когда придет время, он должен будет отправиться в Дорогу как защитник своего короля и родича во имя чести своего рыцарского ордена, бесстрашный, неколебимо верный lewte (данному им слову. — Пер.), в полном одиночестве, без какой-либо помощи.
И вот наконец наступает срок сэру Гавейну отбыть на поиски Зеленого Рыцаря и Зеленой Часовни, где назначена встреча. Мои высказанные выше соображения об этической подоплеке Песни Первой и о волшебном эпизоде с отрубанием головы могли показаться неубедительными, но теперь автор не оставляет места сомнениям. Он описывает вооружение и доспехи сэра Гавейна; тут мы можем остановиться на контрасте его ярко-алого и блистающего золотого цветов с зеленым цветом его противника и задуматься об их возможном символическом значении, однако поэта интересует другое. Описанию доспехов и прочего вооружения отведено, собственно, всего несколько строк, а красный цвет (red и goulez)1 упомянут лишь дважды. Внимание автора приковано к щиту Гавейна. Его описание многое проясняет в замысле поэта, недаром он посвятил ему целых три строфы2. На щит Гавейна автор помещает — и мы вправе употребить это слово, поскольку, без сомнения, это его собственное добавление — вместо геральдических фигур, традиционно изображавшихся на щите Гавейна — льва, орла или грифона, — символ пентаграммы, то есть пятиконечную звезду. Сейчас нам не очень важно, какое значение или какие значения приписывали этому символу в разных местах и в разные эпохи (1). И в равной мере не так уж важно, какие прочие или более древние значения связывались в геральдике с зеленым и красным цветом, с остролистом или с топорами. Ибо смысл пентаграммы в этой поэме очевиден, по крайней мере, в главном (2). Она, как и обычно, символизирует «совершенство», но в данном конкретном случае — именно религиозное (христианское) совершенство в благочестии и нравственности, а также в проистекающей из них «учтивости» в отношениях между людьми; совершенство во всех частностях, касающихся этих добродетелей, совершенную и нерушимую связь между высоким и низким3. Так Гавейн и выезжает из Камелота — с этим знаком на щите (и, как мы узнаем позже, еще и на плаще). Этим выбором знака он обязан поэту: у самого сэра Гавейна мотивов, которыми поэт объясняет выбор именно этого символа, быть не могло, а если бы и были — он не смог бы сказать об этом открыто.
2 Строфы 27—29, в основном строки 640—655.
3 Углы пентаграммы символизируют каждый свою «пятерку» качеств, без которых нет совершенного рыцаря и которые присущи Гавейну или составляют его идеал. Первый угол — Fyue wyttez (пять чувств): чувства рыцаря должны быть чисты. Среднеангл. wyttez имеет также отношение к уму и понятливости (отсюда англ. wit). В переводе Толкина: «First faultless was he found in his five senses» («Прежде всего непорочным он был признан во всех своих пяти чувствах». Второй угол — Fyue fyngres (пять пальцев): символизирует физическую силу и ловкость. Третий угол — Fyue woundez (пять ран Христа): на поклонении ранам Христа основана вера, без которой нет истинного рыцаря (в ориг.: And alle his afyaunce vpon folde watz in pe fyue woundez / pat Cryst kaзt on pe croys, as pe crede tellez. В переводе Толкина: «...firmly on the Five Wounds all his faith was set» — «...твердо на Пяти Ранах основана была вся его вера». Слово afyaunce комментаторы переводят, скорее, не как «вера», а приблизительно как «верность вере». Четвертый угол — Fyue joyez (Пять Радостей Марии): в католической традиции — Благовещение (весть о рождении Христа), Рождество, Воскресение Христа, Вознесение Христа и Успение (смерть Девы Марии: Сын забирает Мать с собой). «Пять Радостей Марии» придают Гавейну доблести и стойкости (forsnes, в переводе Толкина valour {«...ever from the Five Joys all his valour he gained» — «...всегда от Пяти Радостей черпал оя всю свою доблесть»). Пятый угол, Fyft Fyue («пятая пятерка»), объединяет главные «общественные» добродетели: fraunchyse («щедрость», «великодушие»), felaзschyp («дух товарищества», «братская любовь», «доброта»), clannes («чистота», «целомудрие», «невинность»), cortaysye («куртуазия», «рыцарственность», «учтивость») и pite («жалость», «сострадание», «набожность») (эти сведения взяты нами из разных источников, в основном из комментариев к поэме, составленных Джонатаном А. Гленном (Jonathan A. Glenn).
Его долгий и опасный путь в поисках Зеленой Часовни описан коротко, но в целом в соответствии с общим замыслом поэта. Местами это описание кажется слишком беглым, а некоторые места остаются для комментаторов непонятными, однако общей картины это не меняет. Поэт спешит поскорее добраться до замка, где сэр Гавейн будет подвергнут испытанию. Нам с вами нет смысла задерживаться где-либо, пока не покажется этот замок. А когда он покажется, это будет именно такой замок, какой пожелал сотворить и сотворил автор, а не просто нагромождение инородных строительных материалов, из которых этот замок, как приходится признать, именно и построен1.
Как же Гавейн находит замок? В ОТВЕТ НА МОЛИТВУ. Рыцарь находится в пути со Дня Всех Святых1. И вот уже наступил Сочельник, а Гавейн блуждает в дремучем лесу... И что же заботит его больше всего? Как бы не пропустить утреннюю рождественскую мессу:
|
Он беспокоился, как бы ему на службе церковной молитву вознесть Богу, что этою ночью дивно от девы явился, да утолит наши скорби. Воздохнув, он взмолился: «Взываю к Тебе, о Боже, и к тебе, о Мария, Матерь Божья всехвальная, уготовать молю мне пристанище, чтобы выслушать мессу, а по ней и утреню, «Отче наш» повторяя, «Богородице Дево» и «Верую» твердя упорно». (32.750–8)
|
И когда Гавейн так помолился, покаялся в своих грехах и осенил себя трижды крестным знамением, он тут же увидел за деревьями прекрасный белый замок и поехал навстречу учтивому приему — и все это в ответ на его молитву.
Таким образом, из каких бы еще более древних камней ни было выстроено призрачное, но осязаемое великолепие этого замка, какой бы новый оборот ни приняло повествование, какие бы ни обнаружились детали, которые автор унаследовал, опустил, проглядел или переосмыслил, удачно или не очень, в соответствии со своей новой целью, ясно одно — наш поэт ведет Гавейна не к демонам, не к врагам рода человеческого, а к куртуазным хозяевам вполне христианского пристанища. Здесь чтят короля Артура и Круглый Стол, звонят колокола в часовне, призывая к вечерне, и всё, как у добрых христиан:
|
В сочельник, когда почитают Рожденье Владыки, плотью облекшегося для спасенья людей, ликуют о Нем в каждой келье, и в хижине каждой, и в великолепных дворцах; ликовали и в этом. (41.995–8)
|
В этом замке Гавейн на короткое время должен был почувствовать себя «как дома» и, против всех ожиданий, оказаться в излюбленной им бытовой и социальной атмосфере, где его исключительное искусство вести учтивую беседу способно было снискать ему самую высокую честь. Тут-то и началось его искушение. Мы не вполне осознаем этого поначалу, однако по здравом размышлении становится очевидно, что необыкновенная история, которая легла в основу поэмы, эта mayn meruayle1, была самым тщательным образом переиначена умелой рукой, которую направлял тонкий и благородный разум. Получается, что в той самой обстановке, которая так привычна для Гавейна и вращаясь в которой он и стяжал себе свою исключительную репутацию, — в этой-то христианнейшей обстановке он и подвергается испытанию, — причем именно как христианин. На прочность испытываются и он сам, и все, на чем он стоит.
Пентаграмма имеет привкус сухой учености, которая, казалось бы, несовместима с художественным инстинктом поэта-рассказчика (3). Но, если у нас на миг возникло опасение, что мы рискуем променять Волшебную Страну (Faerie) на убожество формальной аллегории, — нас немедленно разубеждают. «Совершенство» Гавейна можно рассматривать как некий идеальный эталон (сколь бы ни был Гавейн далек от идеала на самом деле), однако сам Гавейн вовсе не выглядит этакой математически точной аллегорией: он показан как обычный человек, живое человеческое существо. И сама его куртуазность проистекает не столько из идеальной модели, выработанной его мифической эпохой, сколько из его собственного характера. Гавейн наслаждается в приятном обществе благородных дам, и женская красота способна взволновать его до глубины души. Именно так и описана его первая встреча с прекрасной супругой лорда. Гавейн присутствует на вечерне в домашней церкви владельцев замка. После окончания службы появляется, выйдя из-за специальной загородки, Хозяйка:
|
Вот она вышла с девами из-за загородки, ликом, ласковою улыбкой от прочих отлична, сложена стройно, ступает плавно, как пава, краше Гвиневеры, — и бросила взгляд на Гавейна. Думая должное даме воздать, подошел он... (39.942–6)
|
Далее следует краткое описание красоты Хозяйки по контрасту с уродливой старой дамой, которая сопровождает ее:
|
Ибо младшая белой была, старшая — блеклой; красными розами украшены щеки одной, нещадно морщинами у другой щеки изрыты; перлы у первой плат головной испещряли, были открыты плечи ее и прекрасная шея, снега белее, что горные склоны лелеют; у дамы другой белый ворот доверху шею скрывал и черный ее подбородок... (39.351–8)
|
| Как увидел Гавейн великолепную леди,
вышел с вежеством высокорожденного лорда, старшую леди почтил он низким поклоном, плечи младшей леди легко приобнял с поцелуем учтивым и почтительным словом... (40.970–4)
|
А на следующий день за рождественской трапезой его усаживают за главным столом подле Хозяйки, и во все время этого великолепного, веселого пиршества автор занят (как он сам говорит) лишь одним — он описывает их обоюдный восторг:
|
Вот я вижу Гавейна и дивную даму, выпало им в довольстве вкушать трапезу, друг друга радуя речью учтивой, ласковым словом усладным, от зла свободным. Трапезу эту сравнивать не с чем — радостна втрое! |
| Бьют барабаны, и труб гром,
грянули дудки, воя. Каждый думает о своем, и о своем эти двое. (41.1010–19)
|
Это начало, но ситуация еще не вполне сложилась. Гавейн получает передышку, но он не забыл о цели своего похода. Четыре дня Гавейн веселится, однако вечером четвертого дня, когда до назначенного срока, первого дня Нового года, остается лишь три дня, он просит позволения наутро уехать. Гавейн ничего не говорит о своем деле, просто сообщает, что он должен отыскать некую Зеленую Часовню и оказаться там в первый день Нового года. Однако Хозяин замка говорит ему, что он может отдыхать еще три дня, пока полностью не исцелится от усталости и не забудет о невзгодах, которые ему пришлось вытерпеть во время похода, поскольку искомая Зеленая Часовня находится всего в двух милях от замка. А назначенным утром Гавейну дадут провожатого, который и отведет его туда.
Тут автор поэмы прибегает к многажды повторенному им приему: он в очередной раз искусно сплетает нити древних волшебных историй с чертами характера Гавейна (как он его описал) и тем самым заставляет механизм этой истории работать на себя. На сцене появляется Опасный Хозяин, приказы которого непререкаемы, сколь бы глупыми или дикими они ни казались. Но мы видим также, как горячо, если не сказать пылко, изъявляет Гавейн свою учтивость. В свое время, заключая договор с Зеленым Рьщаре, Гавейн добавил от себя слова «что бы ни случилось», ужесточив тем самым условия договора; теперь, исполненный радости и благодарности, он с таким же жаром восклицает:
|
«Благодарю тебя тысячу раз, помимо прочего! Без колебаний тебе я буду послушен» (44.1080–2)
|
И Хозяин тут же ловит Гавейна на слове. Он велит Гавейну ложиться спать попозже и все дни проводить с Хозяйкой, дожидаясь его возвращения с охоты. А потом он предлагает заключить на первый взгляд нелепый договор:
|
«Что ж, добро, — рек хозяин. — Договоримся так: вся добыча моя, что добуду, будет твоей, а тебе что подарят, — мне должен будешь отдать. Без обмана должна вестись наша мена, И смотреть будем каждый раз: чья добыча больше?» «Добро! — рек благородный Гавейн. — Уговор принят! Странно играешь, но нравятся мне эти игры!» «Добрая сделка! Вина нам подайте сюда!» Так Хозяин замка сказал, всем на веселье. Яства вкушая, смеялись за трапезой приятной лорды и леди, и веселием все услаждались. Как во Франции при дворе, перебрасывались речами, легким, задушевным словом, ловкою шуткой... Нежными целованьями пира конец был знаменован. Слуги затем с факелами отвели их к постелям пуховым. |
| А лорд, пока пир не смолк,
поминал снова и снова договор их, зная толк в играх рода такого. (45.1105–25)
|
На этом завершается Песня Вторая, и начинается большая Песня Третья, которую я намерен разобрать отдельно. Я не стану подробно говорить о ее восхитительной композиции, так как комментариев на этот счет достаточно. А мастерство, с каким построена Песня Третья, любому внимательному читателю очевидно (если допустить, что этот читатель интересуется играми того времени и их тонкостями, но даже если он ими и не интересуется). Вот некоторые композиционные приемы, которыми воспользовался автор. Искушения «прослоены» сценами охот. В описании дичи, добытой лордом за три дня, от первого дня к последнему наблюдается существенное diminuendo1. Во время первой охоты он загнал целое стадо оленей (а в зимнюю пору стадо оленей имеет весьма ощутимую ценность!). В последний же день он принес всего лишь «жалкую лисью шкуру»2. Искушения же, которым подвергается Гавейн, по контрасту, с каждым днем все опаснее. И наконец, «сценам охот» придано в композиции этой Песни особое, структурирующее значение: они призваны не только ритмизовать сюжет и обеспечить повествованию объемность — за счет того, что все три главных действующих лица постоянно остаются в поле зрения, благодаря «охотам» три решающих дня растягиваются и обретают — на фоне целого года, в течение которого разворачивается действие поэмы, — добавочный вес. Все это едва ли требует дополнительных пояснений (4). Кроме того, «сцены охот» выполняют еще одну функцию, весьма существенную для рассмотрения этой истории под тем углом, под которым ее вижу я. Как я уже отмечал, неважно — погрузимся ли мы в поиски «аналогов» нашей истории (в особенности менее куртуазных) или же будем внимательно исследовать этот текст без оглядки на остальные — вывод будет один: поэт сделал все, чтобы превратить место искушения в обычный рыцарский замок. Этот замок — не зачарованное видение и не обитель фей. Здесь царят законы куртуазии, гостеприимства и добронравия. И «сцены охот» в этой перемене атмосферы3 играют важную роль.
2 В ориг. «foule fox felle» (78). В пер. Толкина (который и цитирует здесь Толкин) — «foule fox-fell».
3 Речь идет об изъятии автором из описания замка элемента «волшебности», присутствующего в других подобных легендах. Обычно замок, куда попадает Гавейн после своих странствий, — так или иначе зачарованный.
Хозяин замка ведет себя так же, как вел бы себя в эту пору года настоящий богатый лорд. Ради целей повествования его надо как-нибудь убрать на время с глаз долой, и это достигается, но в этом нет ничего таинственного, он не исчезает просто так. Его отсутствие и свобода хозяйки делать что ей заблагорассудится выглядят совершенно естественно. Это помогает представить и искушения более естественными, и, соответственно, перевести их в обычную нравственную плоскость. Из текста однозначно следует, что у Гавейна не возникает никаких подозрений относительно реальности замка, куда он попал. Думаю, у первых читателей и слушателей поэмы их тоже не возникало — уж в любом случае не больше, чем у героя (и я уверен, что автор приложил все усилия, чтобы подозрений возникнуть и вовсе не могло) (5). Ни у кого не должно было закрасться и мысли, что искушения подстроены, что они — лишь часть опасностей и испытаний, навстречу которым Гавейна вслепую выманили из владений короля Артура, чтобы уничтожить или безвозвратно обесчестить. Можно призадуматься — а не зашел ли автор слишком далеко? Нет ли в его затее крупного просчета? Все в этом замке, за исключением разве что редкостного великолепия (которое, впрочем, встречается и в жизни), столь обыденно, что поневоле возникает вопрос: «А что случилось бы, не пройди Гавейн испытания?» Ведь в конце поэмы мы узнаем, что лорд и леди были в сговоре. Но испытание было задумано как совершенно реальное, и целью его было проверить, не падет ли Гавейн и не опозорит ли свой рыцарский орден. На самом деле хозяйка была Гавейну врагом, «епету keen»1. Но что служило ей защитой, когда ее муж находился вдали от нее, в лесу, улюлюкая и преследуя зверя? На этот вопрос нет ответа, а если бы и был — он отослал бы нас к древним варварским обычаям и к историям, в которых еще жива память об этих обычаях. Ибо мы не принадлежим тому миру, а автор если и знал что-либо о нем, то безоговорочно отвергал все с ним связанное. Но волшебство (magic) он безоговорочно отвергать не стал. Поэтому ответить можно было бы так: в этой части поэмы волшебство завуалировано, его предлагается принимать просто как данность, как одну из сил, направляющих события, и не более того. На самом же деле волшебство играет здесь такую же решающую роль, как и в других частях поэмы, где оно выражено явно и недвусмысленно, — например, в сцене вторжения Зеленого Рыцаря2. Только fayryзe3 (240) сообщает заговору лорда и леди убедительность и действенность внутри созданного автором мира. Надо полагать, что, коли уж сэр Бертилак4 умел снова стать зеленым и изменить облик перед встречей у Часовни, леди тоже вполне могла защитить себя какой-нибудь внезапной переменой облика или с помощью какой-нибудь могучей силы, которая могла быть пущена в ход, впади сэр Гавейн в искушение, пусть одним лишь помыслом (6). В этом случае «просчет», похоже, оборачивается выигрышем. Искушение совершенно реально и представляет огромную опасность, в первую очередь в нравственном плане (так как только этот план для Гавейна и важен (7)); и в то же время читатель, способный уловить в рыцарской поэме привкус faerie (волшебства), понимает, что искушение, даже оставаясь на заднем плане, грозит бедой и погибелью.
2 Имеется в виду завязка поэмы — вторжение страшного Зеленого Рыцаря в пиршественный зал короля Артура.
3 Fayryзe (среднеангл.) можно перевести как «волшебство» (в большинстве случаев мы так и переводим), однако значение этого слова несколько шире, так что некоторые переводчики предпочитают оставлять его без перевода (например, в эссе Толкина «О волшебных сказках» в переводе С. Кошелева слово «Fairy» — когда оно употребляется в значении «Волшебная страна» (иногда оно означает также «фея», «волшебное существо») — переводится как «феерия», само словосочетание «волшебные сказки» (fairy tales) приводится в тексте в двойном переводе — «волшебные, или фейные, сказки», в переводе этой строки Первой Песни, выполненном С. Лихачевой, употреблено слово «фаэри» («Засим люди сочли его / иллюзией фаэри»). В оригинале: «Forpi for fantoum and fayryзe ре folk here hit demed», в пер. Толкина — «wherever a fantom and fay-magic folk there thought it» («...они (пирующие) подумали, что он (Зеленый Рыцарь) или призрак, или волшебное существо».
4 Хозяин замка, он же Зеленый Рыцарь, сэр Бертилак де Одесер (Sir Bertilac de Hauptdesert), в некоторых версиях легенды — «Озерный», хотя обычно это титул Ланселота.
Внутренняя борьба приобретает силу, какую едва ли мог бы возыметь реалистический рассказ о благородном рыцаре, который гостит в замке у другого рыцаря и вынужден бороться с искушением впасть в прелюбодейство. В этом — одна из характерных особенностей Волшебной Истории: дать сцену и действующих лиц крупным планом; или, точнее, это — одна из тех особенностей Волшебной Истории, которые проходят через фильтр литературной алхимии, когда реальный поэт берется за какую-нибудь старую историю с уходящими вглубь корнями и переписывает ее на свой собственный лад.
Итак; на мой взгляд, искушения сэра Гавейна, его реакция на них и критика в адрес кодекса рыцарской чести были для нашего автора главным, а все остальное — второстепенным. И я не намерен это обсуждать. Идеологическая нагруженность, объем и детальная разработка Песни Третьей (а также конца Песни Второй, где намечаются контуры дальнейшего) являются, как я уже сказал, вполне достаточным свидетельством того, на чем в первую очередь сосредоточено внимание поэта.
Теперь я обращаюсь собственно к сценам искушения, и в особенности к тем моментам, которые, как я полагаю, наиболее важны с точки зрения автора и по отношению к поставленной им перед собой задаче. Именно в них ответ на вопрос: «О чем же эта поэма?» Для этого необходимо освежить в памяти беседы Гавейна и Хозяйки замка. (В этом месте лекции были зачитаны сцены искушения в переводе.) Кое-что в этих эпизодах я хочу прокомментировать. Утром 29 декабря, когда Гавейн еще не вполне проснулся (он сидит на постели), хозяйка заходит в его покой, а когда он встает, обнимает его (49.1224—5). Леди сообщает ему, что опасность им ниоткуда не грозит1, и переходит в наступление2. Полагаю, здесь важно отметить, что некоторые критики усматривают в этом оплошку леди (что означало бы, разумеется, что оплошал сам автор), но оплошку допускают здесь, конечно, они сами. Дело в том, что леди и впрямь очень красива и, как мы уже видели, Гавейна влечет к ней с самого начала. К тому же это сильнейшее искушение обещает повториться: леди дает понять (49.1235—40), что ее предложение останется в силе на все время их знакомства. Так или иначе, после этой сцены все их беседы вращаются вокруг прелюбодеяния.
2 То есть без обиняков склоняет Гавейна к прелюбодеянию.
Нам не сообщается, беседовал ли Гавейн с леди наедине после первого искушения (если не считать беседы в его покое). Мы все время видим Гавейна либо в обществе обеих дам, либо, после возвращений лорда, в большой компании — за исключением вечера после второго искушения1. И мы можем наблюдать существенную разницу между сценой после ужина тридцатого декабря и сценой безмятежного рождественского обеда (которую я цитировал выше):
| И царила радость вокруг той трапезы:
долго длился ужин, колядки и пляски сеяли в сердце веселье, легкость вселяли; благородный рыцарь и леди всегда были рядом. Леди же нежные взгляды посылала Гавейну, чаруя украдкой рыцаря без упрека и страха... Засмущался несчастный Гавейн, не чая пощады, но из учтивости лика не отвратил, отводя осторожно старанья прекрасной дамы. (66.1652–63)
|
В оригинале этот пассаж содержит, казалось бы, целый ряд двусмысленностей и на первый взгляд неясностей в изложении; однако, если присмотреться повнимательнее, станет видно, что на самом деле места для разночтений нет. Гавейн вовсе не выглядит человеком, у которого все происходящее вызывает неловкость или неприязнь, он просто не знает, как поступить. Он терзается искушением. Рыцарский кодекс поведения, в котором воспитан Гавейн, требует, чтобы он продолжал игру, но леди уже успешно выявила слабости, присущие этому кодексу. Правила, к которым привык Гавейн в подобной ситуации, ведут к беде и ни на что не годны — все равно что связка шутих против Порохового Заговора. Страх, а возможно и целомудрие тут же предлагают Гавейну выход — спасаться бегством, и он делает попытку отказаться от уже принятого ранее предложения хозяина замка остаться еще на три дня. Однако и тут Гавейн оказывается пленником своего куртуазного воспитания. Он не находит ничего более убедительного, чем сослаться на то, что время назначенной ему встречи уже близко и ему, мол, лучше отправиться в путь прямо следующим утром. Но лорд легко пресекает эти поползновения, прикидываясь обиженным. Получается, у Гавейна возникли сомнения в способности лорда сдержать слово?! Лорд напоминает — ведь он обещал Гавейну доставить его к Зеленой Часовне точно в срок. Дальше станет ясно, что Гавейн хотел бежать именно из соображений нравственного порядка (то есть опасаясь за свою невинность), а вовсе не потому, что приставания леди были ему противны.
Намек прозрачен; однако в сценах двух первых искушений автор предпочитает просто описывать события и передавать диалог, умалчивая о чувствах Гавейна (и не давая оценки происходящему). Но как только дело доходит до третьего искушения, тон повествования меняется. До сих пор Гавейн изо всех сил старался остаться в рамках куртуазии, и ему — с помощью присущего ему ума и изысканных манер, которыми он так славился, — удавалось искусно вывернуться. До этого момента (то есть до вечера 30 декабря) он чувствовал себя более или менее уверенно. В строфах же 70 и 71 (строки 1750 и далее) наступает кульминация. Теперь Гавейн в большой опасности. Благоразумное бегство оказалось невозможным — пришлось бы нарушить слово и поступить неучтиво по отношению к хозяину замка. Сон Гавейна был смутен и тревожен, полон смертного страха. Но, когда леди появляется вновь, наш рыцарь встречает ее с искренней радостью и, как всегда, восторгается ее красотой. Итак, утром последнего дня уходящего года леди вновь приходит в покой Гавейна:
|
...в длиннополой, до самого пола, пелерине прекрасной с тщательно щипанной, пышной меховою опушкой, без чепца, лишь камни в косах ее сверкали, яхонты ясные, яркие, в связках по двадцать; ее лик благородный и шея были открыты, на груди у ней вырез, и вырез у ней на спине. Леди в светлицу вошла и двери закрыла, отворила окно, дабы рыцарь скорее проснулся, И слова привета Гавейну вымолвила велегласно: |
| «Как можешь ты спать, о рыцарь!
Смотри, как утро ясно!» Взор Гавейна не мог открыться, но он слышал ее прекрасно. |
| Долила дрема тяжкая доблестного Гавейна,
смутно уму его было в муке дремотной, в мыслях о неумытном роке, коего не минуть, о свидании у Часовни, о злоудачном ударе, коий он должен принять по данному слову. Но явление леди тотчас его пробудило. Леди к нему подошла с улыбкой веселой, склонилась над ним и нежно поцеловала. Рыцарь радостно встретил ее, наслаждаясь ликом леди и нарядом ее прекрасным. Отлынивать было тщетно, хлынула щедро прямо в сердце рыцарю огромная радость. И с улыбками сладкими славно они забавлялись, смех искрометный звенел без меры, меж ними витая. |
| Стали словами играть,
от удовольствия тая. И беды бы не миновать, когда бы не Дева Святая. |
|
(69–70.1736–69)
|
С этими строками впервые после описания щита Гавейна (а здесь к нему скрытая отсылка) и изображенной на нем пентаграммы мы возвращаемся к религии, к чему-то, что стоит выше вежливости и хороших манер и выходит за рамки рыцарского кодекса. В итоге оказалось (а впоследствии будет доказано окончательно), что в решающей битве куртуазия не только бесполезна, но, более того, по-настоящему опасна и способна сыграть на руку врагу. Сразу после приведенной выше сцены появляется слово synne1, причем в первый и последний раз, несмотря на то что поэма посвящена в основном вопросам нравственности. Благодаря этому слово приобретает дополнительный вес, а главное, проводится четкая граница (Гавейн сам оказывается вынужден ее провести) между «грехом» (moral law — нравственным законом) и рыцарской учтивостью — куртуазией (courtesy):
|
Так она с тактом подталкивала его тихо, но непреклонно, покуда он, оного не желая, не встал у черты, за которой в итоге пришлось бы либо леди отвергнуть с оскорблением, либо сдаться. Хотел он остаться учтивым, уважить даму, но и прелюбодеянья боялся, хозяина замка, доброго лорда, с дамой предать не желая. «Господи Всемогущий! — воззвал он. — Помоги и помилуй!» (71.1770–6)
|
Финал сцены последнего искушения, когда леди, потерпев окончательное поражение в главном (или более серьезном, или единственно реальном), полностью меняет тактику1, — безусловно, дополнительно осложняет эту и без того сложную поэму, о чем нам еще предстоит поговорить подробно в надлежащее время. А сейчас мы перейдем к сцене, которая следует за искушением, — к исповеди Гавейна (75.1874–84).
Здесь есть прямой смысл упомянуть И. Голланца1. Он заслуживает этого хотя бы потому, что первым обратился к сцене исповеди Гавейна (75.1874 — 84), которой до него уделяли мало внимания или не уделяли вовсе. Однако он безнадежно упустил из виду главный момент или даже несколько главных моментов. Ими я и намерен сейчас заняться. Не будет преувеличением сказать, что интерпретация и оценка поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» целиком зависят от того, как понимается тридцатая строфа Песни Третьей (строфа 75)2. Или поэт знал, чего хочет добиться, понимал, что говорит, и сознательно поместил эту строфу именно в это место — и тогда мы обязаны относиться к этому со всей серьезностью и считаться с замыслом автора; или же автор ничего не имел в виду и был просто компилятором, который кое-как свел воедино традиционные для этого сюжета сцены, и, стало быть, его поэма не заслуживает особого внимания и может представлять интерес разве что в качестве чулана, набитого старыми, полузабытыми и маловразумительными историями и байками, — обыкновенная волшебная история для взрослых, причем не очень-то удачная.
2 Собственно сцена исповеди.
Голланц, очевидно, придерживался второго мнения, так как в его примечаниях имеется такое удивительное утверждение: «...хотя сам поэт этого не замечает (!), исповедь Гавейна святотатственна. Гавейн умалчивает о том, что принял в подарок пояс с намерением оставить его себе». Сущая чепуха! Как мы увидим, текст недвусмысленно опровергает это утверждение. Но прежде всего представляется абсолютно невероятным, чтобы такой в высшей степени серьезный поэт (8), который ранее, преследуя четко обозначенную нравственную цель, вставил в поэму пространное отступление о пентаграмме и о щите Гавейна, ни с того ни с сего ввел бы в текст пассаж об исповеди и отпущении грехов (таинства, к которым он, что бы ни думали на этот счет нынешние критики, относился с величайшим благоговением), да еще упустив из виду столь «малозаметную» деталь, как «святотатство» (sacrilege). Если он был таким глупцом, остается подивиться, зачем издатели вообще дают себе труд издавать и редактировать его сочинения?
Обратимся к тексту. Во-первых, поскольку автор не сообщает, в чем именно Гавейн исповедался, мы не можем сказать, о чем он умолчал, и поэтому утверждение, будто он что-то утаил, — просто благоглупость. Однако нам сказано, что Гавейн schewed his mysdedez, of ре more and ре mynne, то есть исповедался во всех своих грехах (во всем, в чем следовало исповедаться), как в больших, так и в малых. Для тех, кому и теперь еще не все ясно, автор добавляет: исповедь Гавейна была доброкачественной, не «кощунственной», а оставление грехов — действенным (9):
|
Откровенно Гавейн исповедался в своих прегрешеньях, в великих и малых, небеса о милости умоляя, да будет избавлен от гнета, что на душу давит. Отпуст над ним был прочитан по чину, и очистилась душа его совершенно — хоть не страшись Суда... (75.1880–4)
|
А если кому-то и этого мало, поэт показывает вдобавок, как легко было после исповеди на сердце у Гавейна:
|
И отправился на пир, и радовался с прекрасными леди, за достойным застольем пел песни, в танцы пустился, до утра почти, как допрежь ни разу, — лишь в этот раз. |
|
Так что кто-то даже сказал: «В каком он восторге сейчас! Он веселым таким не бывал с тех пор, как гостит у нас». (75.1885–92)
|
Надо ли говорить, что легкость на сердце — явно не то расположение духа, которое могло бы сопутствовать лживой исповеди и умышленному сокрытию греха?
Стало быть, исповедь Гавейна представлена как искренняя. И при этом Гавейн оставил пояс себе. О случайности или неумышленности речи нет. Поэтому мы вынуждены считаться с этой ситуацией, созданной автором намеренно: нам предлагают задуматься над соотношением разных поведенческих канонов, законов куртуазности, правил игры, условностей этикета — и понятий о грехе, нравственности и спасении души, а вкупе и всего, в чем автор усматривает вечные и универсальные ценности. И разумеется, исповедь именно по этим соображениям и введена в поэму, причем именно здесь. В условиях смертельной опасности Гавейну пришлось разорвать свой рыцарский кодекс надвое, решительно разъединить его составляющие — благородные манеры и нравственное благородство.
А теперь нам придется обсудить все это подробнее. Итак, из рассказа об исповеди Гавейна вытекает прежде всего следующее: автор не считал, что утаить пояс было проступком или грехом на том плане, где царят законы нравственности. Поскольку возможны только два варианта: либо Гавейн вообще не придавал значения поясу и достаточно разбирался в вопросах веры, чтобы не путать досужие забавы с вещами посерьезнее, либо же он упомянул о поясе на исповеди, но священник lern hym better1. Первый вариант, по-видимому, менее вероятен, поскольку в этих вопросах образование Гавейна, считай, еще только началось. Кроме того, автор сообщает нам, что перед тем, как исповедоваться, Гавейн обращается к священнику за каким-то советом (10).
На самом деле мы достигли места, где пересекаются два плана: на одном — все сущностное, устойчивое, на другом — иллюзорные, преходящие ценности. С одной стороны — нравственность, с другой — кодекс чести, игра по правилам. Персональный кодекс чести у большинства людей был прежде (а у многих и теперь остается) примерно таким же, как у сэра Гавейна, то есть представляет собой смесь обоих уровней, и любые бреши в подобном персональном кодексе чести неизменно вызывают схожие чувства. Только кризис или — если кризиса не происходит — серьезные раздумья (а задумываются герои редко) способны помочь в распутывании разноплановых элементов, и этот процесс может быть весьма болезненным, с чем и пришлось столкнуться Гавейну.
Разумеется, «игра по правилам» может иметь дело как с самыми обыденными, так и с более серьезными вещами, по восходящей, — начиная, скажем, с игры в шашки или в карты. Чем теснее эти игры будут связаны с реальными делами и обязанностями, тем больше может оказаться их нравственная нагрузка; поступки «совершённые» и «несовершённые» будут иметь два аспекта — по отношению к игровому ритуалу и по отношению к законам вечности. Таким образом, чаще будет возникать и дилемма — конфликт разных планов. И чем серьезнее ваше отношение к играм, тем суровее и болезненнее будут возникающие перед вами дилеммы. Сэр Гавейн (как он описан в поэме) по своему сословию, традициям и воспитанию принадлежал к людям, которые относятся к своим играм самым серьезным образом. Терзания его были нешуточными. Можно сказать, он и выбран-то был именно по этой причине, выбран автором, который и сам принадлежал к тому же сословию, впитал те же традиции и знал, каково бывает в таких случаях, не понаслышке. При этом его интересовали проблемы поведения и ему случалось задумываться над ними.
Здесь можно задаться вопросом: «Не является ли это попросту поэтическим промахом, fault of art, — затронуть здесь столь серьезные материи, как всамделишная исповедь и настоящее отпущение грехов? Ринуться в бой очертя голову и насильно привлечь внимание читателя к расхождениям в двух неравнозначных системах ценностей (а может быть, читателю это не слишком-то и интересно)? К чему упоминания о подобных вещах в рамках простой волшебной истории? И как можно всерьез копаться во всякой ахинее вроде обмена оленины на поцелуи? Сейчас у меня нет особого желания отвечать на подобные вопросы, так как моя главная задача — сказать и (я надеюсь) показать, что автор «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря» именно так и поступил, и если не уяснить этого — мы не сможем понять, как он работал со своим материалом, или поймем неправильно. Но раз уж вопрос поднят, я отвечу. Практически все признают: поэма дышит жизненной силой. Причем, скорее всего, она дошла до наших дней не вопреки, а все-таки именно благодаря необыкновенной серьезности авторского подхода. Однако многое зависит от того, чего хочет (или думает, что хочет) читатель. Требует ли он от автора, чтобы его ожидания оправдались? Или чтобы автор придерживался тех же взглядов? Или чтобы он непременно был, скажем, антропологом и антикваром в одном лице? Или чтобы он поставил бы себе целью поразвлечь читателя и просто рассказал бы ему занимательную волшебную историю? И как же он этого достигнет, ограниченный рамками своего времени и современного ему образа мышления? Уж наверняка, даже если бы автор ничего не добивался, кроме как развлечь читателя (что не характерно для усложненного и дидактичного четырнадцатого столетия), разве он, оживляя старые предания, не обречен был в конечном счете пуститься обсуждать современные ему — но и непреходящие — проблемы нравственности? Не выпуская их ни на мгновение из виду, вдыхал он жизнь в своих героев и воскрешал старинные легенды, которые приобретали при этом смысл совершенно отличный от первоначального (о котором автор, по-видимому, имел куда меньше понятия, чем некоторые из наших современников, и которому придавал куда меньше значения). Это тот случай, когда новое вино наливают в старые мехи и, соответственно, неизбежны трещины и течи. Как бы то ни было, поднятая автором этическая проблема (конфликт систем ценностей) благодаря столь любопытной и причудливой постановке, мне кажется, куда более жизненна и интересна, нежели любые расплывчатые гадания об ушедших временах. Так или иначе, я считаю, что четырнадцатый век выше эпохи варварства, а теология с этикой — выше фольклора. Разумеется, я не настаиваю на предположении, что это входило в изначальный замысел автора — столкнуть «реальные» правила поведения с искусственными. Мне представляется, что поэма писалась довольно долго, текст то и дело менялся, что-то дописывалось, что-то вымарывалось. Однако вопросы нравственности не потерпели ущерба. Они присущи рассказанной автором истории изначально, а потому естественным образом поднимаются по ходу повествования снова и снова, и автор вновь и вновь заостряет на них внимание — и у него получается это то лучше, то хуже: в меру его вдумчивости и проницательности, в меру его превосходства над каким-нибудь бродячим сказочником.
В любом случае ясно, что еще до создания окончательной версии «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря» автор уже способен был целиком и полностью осознать, что у него получилась именно морализаторская поэма, этакий трактат на тему рыцарских добродетелей и куртуазных манер. Недаром он, отправляя своего рыцаря на стезю испытаний, ввел в поэму целых две строфы о пентаграмме («...хотя и затянется моя история», — оговаривается он, — и хотя это может прийтись не по вкусу современному читателю). И прежде чем автор помещает в конце рассказа о главном испытании пассаж об исповеди, он уже обратил наше внимание на конфликт, возникающий между разноплановыми системами ценностей, недвусмысленно высказавшись на эту тему в строках 1773—4. Эти строки ставят нравственный закон выше законов рыцарской учтивости и однозначно отвергают (вынуждая к этому и Гавейна) прелюбодеяние, когда оно в согласии с куртуазной традицией понимается как неотъемлемая часть рыцарской нравственности, как нечто, в чем для совершенного рыцаря якобы нет ничего предосудительного. Весьма современная и весьма английская точка зрения! (11)
Но в свете высказанного ранее хозяйкой открытого приглашения к прелюбодеянию (строфа 49, строки 1237—40) (несомненно, эта сцена намеренно помещена в самом начале1 разбираемого сейчас фрагмента поэмы) нам легко увидеть тщетность всех последующих попыток Гавейна защититься, оставаясь по-рыцарски учтивым. С этого момента у Гавейна нет сомнений: леди пытается to haf wonпеп hym to woзe («склонить его к плотской любви», 61.1550). Гавейн атакован с двух сторон.
На самом-то деле он уже отказался от показного «служения», от роли «верного слуги», находящегося у леди в абсолютном подчинении, послушного ее воле и желаниям. Однако на словах он еще пытается притворяться, будто покорен желаниям хозяйки, изъясняясь с обычной изысканностью и куртуазной вежливостью:
|
Богом клянусь, если буду любезен тебе словом своим или службой, на какую способен, к вящему твоему удовольствию, буду я рад... (50.1245–7)
Одобрению рад я, которое ты мне даруешь, горд я слугою служить госпоже благородной. (51.1277–8)
Желанье любое твое для меня непреложно, честь для меня, и почет, и чистая радость с помощью Божьей слугою быть у тебя. (61.1546–8)
|
sВсе эти и им подобные заверения — после того как Гавейн раз и навсегда отверг wylnyng1 (1546) хозяйки, — превратились в пустые слова, оказались низведены до уровня рождественских игр.
Изрядный опыт Гавейна по части придворных игр, требующих хороших манер и умения не лезть за словом в карман, позволил рыцарю не выставить себя откровенным «crapayn»1 и избежать «vileinye»2 в речах, то есть не употреблять выражений грубых или просторечных (безотносительно к их правдивости) (12). Однако, хотя Гавейн умудрился отказать хозяйке с прямо-таки обезоруживающим изяществом, закон «покорности любым желаниям дамы» был все-таки нарушен. Нарушить же его Гавейн мог только по этическим соображениям, как бы находчиво он это нарушение ни аргументировал. Впрочем, об этом не говорится вплоть до строк 71.1773–43. Если бы у Гавейна не было иного выхода, ему пришлось бы оставить изысканные манеры и lodly refuse4 (строка 1772) («грубо отказать». — Пер.) даме.
2 Vileinye — грубости (среднеангл.).
3 «Не cared for his cortaysye, lest crapayn he were, /And more for his meschef зif he schulde make synne». У Толкина: «He cared for his courtesy, lest a caitiff he proved, / yet more for his sad case, if he schould sin commit». («Он пекся об учтивости, чтобы не выказать себя подлецом, / но еще более пекся он о том, чтобы не попасть в печальное положение, в котором он оказался бы, соверши он грех».
4 Oper lach per hir luf, oper lodly refuse. У Толкина: «...either refuse her with offence or her favours there take» («...или отказать ей с оскорблением, или принять ее милости»).
Однако его не подвели к этой «черте» непоправимо близко, так, что ему было бы уже не отделаться заверением: «Нет у меня любимой, и вряд ли будет скоро» (71.1790–1)1. Этих слов, с какой бы «милой улыбкой» ни были они произнесены, более чем достаточно. A word pat worst is of alle2 (1792), — отвечает на это леди. Однако леди больше не подталкивает Гавейна к «черте»: автор, несомненно, не хотел, чтобы благородство Гавейна оказалось сломлено. Автор одобряет изысканные манеры и отсутствие vileinye, когда эти качества находятся в союзе с добродетелью и основаны на ней, одобряет куртуазную учтивость, очищенную в целомудренной «рыцарской любви», свободной от прелюбодеяния (13).
2 'Pat is a worde,' quop pat wyзt, 'pat worst is of alle'. У Толкина: «Those words said the woman are the worst that could be» («Эти слова, — произнесла дама, — хуже всего, что могло быть»).
Мы должны, таким образом, признать, что автор включил в поэму рассказ об исповеди намеренно и сам выбрал для него подходящее место. Это свидетельствует о том, что, по мнению автора, «игры» и «манеры» не имеют значения для спасения души («salvation» (75.1879)1) и в любом случае стоят ниже истинной добродетели, которой они должны в случае конфликта уступать. Это различие понимает и Зеленый Рыцарь. Он говорит, что Гавейн — «самый непорочный человек на земле» (95.2363)2, имея в виду главное: нравственность.
2 ре fautlest freke pat euer on fote зede. У Толкина: «the... knight most faultless that e'er foot set on earth!» («...рыцарь, самый непорочный из всех, чья нога ступала по земле!»)
Но мы не затронули еще несколько занятных второстепенных вопросов. Зеленый Рыцарь продолжает свою речь так: Bot here yow lakked a lyttel, sir, and lewte yow wonted (95.2366)1. Что значит lewte? Было бы не вполне точно перевести это слово как «верность» (loyalty), несмотря на родственность этих слов, так как в наши дни слово «верность» применяется главным образом по отношению к честности и постоянству в некоторых важных личностных и общественных отношениях или к долгу (перед короной или отечеством, родственниками или близкими друзьями). Лучше и точнее будет здесь, пожалуй, слово «законность» (legality), также родственное слову lewte, так как lewte, вполне возможно, означает любую «приверженность правилам», неважно какого уровня и кем установленным. Так, наш автор называет аллитерации, расставленные в стихотворной строке на положенных местах, в соответствии с обычными правилами метрики — lel letters (loyal letters) («верные буквы». — Пер.) (2.35)2.
2 As hit is stad and stoken/In stori stif and stronge, / With lel letteres loken, / In londe so hatz ben longe. В переводе Толкина: «...as it is fixed and fettered / In story brave and bold, /thus linked and truly lettered, /as was loved in this land of old» («...как записано / в истории смелой и отважной, / связанной воедино истинными буквами, / как любили делать в сей стране прежде»).
Нарушение каких же правил может быть вменено в вину Гавейну, который принял в подарок пояс, оставил его себе и умолчал об этом? Обвинений можно выдвинуть три: он принял в подарок пояс и ничего не подарил взамен; он не отдал пояс лорду в качестве части своей «добычи» в третий день (как должен был в соответствии с шутливым договором, недвусмысленно названным layke, то есть «игрой»); он использовал пояс для защиты от Зеленого Рыцаря. Полагаю, ясно, что Зеленый Рыцарь имеет в виду только второе. Он говорит:
|
Верному платят верно — И страх неведом ему. На третий день впал ты в скверну... (94.2354–6)
Поясом препоясан моим ты... (95.2358)
|
Он пеняет Гавейну как мужчина мужчине, как игрок игроку. И, полагаю, ясно, что он выражает мнение автора.
А автор не был простаком. Те, кто придерживается строгих и бескомпромиссных нравственных правил, совсем не обязательно простоваты. Возможно, автор думал, что в теории с вопросами нравственности все предельно ясно. Но по тому, как он обошелся со своим материалом, видно и вот еще что: он не считал, что вести себя благочестно — проблема невеликая и усилий не требует. В любом случае он был, если можно так выразиться, джентльменом и настоящим профессионалом1, а потому он не оставался равнодушен к тонкостям. И действительно: moralitas2 его поэмы мало того что и сама по себе сложна, но еще и дополнительно обогащена картиной того, как сталкиваются на низшем уровне разноуровневые законы. Иными словами, автор поставил — или высветил — довольно-таки серьезную проблему.
2 Мораль (лат.)
Гавейну приходится принять прощальный подарок леди. С нажимом подчеркивается, что рыцарь свободен от обвинения в «стяжательстве». Его погрешность была чисто технической: он принял у леди подарок и не смог ничем отдарить, но у него и не было ничего, сравнимого с поясом по ценности, а подарить какую-нибудь безделушку означало бы нанести леди оскорбление (72.1798 и далее1). К тому же красота и ценность пояса самого по себе (81.2037—402) для Гавейна в тот момент значения не имели. Гавейн поставлен в безвыходное положение — ведь пояс, возможно, способен будет спасти ему жизнь, когда он отправится на условленное свидание с Зеленым Рыцарем. Автор нигде не дает этической оценки самой Игре с Отрубанием Головы, но если этим займемся мы, то нам не удастся обнаружить статьи договора Гавейна с Зеленым Рыцарем, которую нарушил бы Гавейн, оставив пояс себе, чтобы получить шанс на спасение. Все, что он обещал, — явиться лично, не присылать вместо себя никого другого (вероятный смысл строки 384, строфа 17: ...wyth no wyз ellez on luue3), явиться в назначенный срок и затем принять от Рыцаря один удар, не оказывая сопротивления. Таким образом, Гавейну не нужен адвокат; впрочем, возможно, кто-нибудь не упустит указать на то, что Гавейна, по сути, вовлекли в дело обманом, поскольку Зеленый Рыцарь продемонстрировал, что защищен волшебством, только под занавес.
2 В переводе Толкина: «But he wore not for worth not for wealth this girdle...» («Но не из-за ценности и не из-за богатства повязал он этот пояс...»). Далее следует описание пояса.
3 В переводе Толкина: «...in the world with none else but me» («...никого в мире не взяв в спутники, кроме меня самого»).
Поэтому с этической точки зрения Гавейна можно было бы считать свободным от обещания, так что даже на уровне просто «игры» попытку Гавейна использовать собственное маленькое волшебство можно считать совершенно честным ходом. Однако автора интересовало иное, хотя он не оставляет без внимания и это, как мы видим из возражения Гавейна:
|
Коль упадет моя глава, ее я не приставлю. (91.3282–3)
|
Таким образом, мы рассматриваем только события в замке и шуточный договор Гавейна с лордом. Гавейн принял в подарок пояс потому, что наутро имел все шансы остаться без головы. И вновь попал в ловушку. Леди хитро выбрала время. Она долго давила на Гавейна, уговаривая взять пояс, и наконец в минуту его слабости ей удалось добиться своего — тут капкан и захлопнулся: леди попросила рыцаря ничего не говорить о поясе ее мужу. Гавейн согласился. Да и едва ли он мог поступить иначе. Однако с присущей ему щедростью и излишней горячностью, о которых мы уже говорили, он клянется не рассказывать об этом никому в мире (14). Разумеется, ему хотелось оставить пояс себе — на случай, что тот действительно окажется спасительным (никакой иной ценности в поясе Гавейн для себя лично, как следует из текста, не усматривал). Но если бы даже ему этого и не хотелось, перед ним все равно встала бы та же самая дилемма. Как соблюсти законы куруазности? Вернуть уже принятый пояс, отказать леди в ее просьбе — и то и другое выглядело бы неучтиво. Спросить, почему о поясе следует помалкивать, Гавейн не мог; по всей видимости, он не хотел смущать леди этим вопросом, так как не было причин полагать, что пояс ей не принадлежит и она не имеет права дарить его. Как ни поверни, пояс принадлежал леди точно в той же мере, что и ее поцелуи, а в скользкой ситуации с поцелуями Гавейн избавил леди от неловкости, отказавшись сообщить, от кого он получил их (15). В момент, когда Гавейн принимает пояс и обещает никому о нем не говорить, нам не сообщается, вспомнил ли Гавейн о своем шуточном договоре с лордом. Но если и не вспомнил, в конечном итоге это его не извиняет. Гавейн не мог пребывать в забывчивости слишком долго. Когда вечером лорд вернулся домой, Гавейн не мог не вспомнить о договоре. Он и вспомнил. Об этом прямо не сказано, однако нам это ясно из строфы 77 — по той поспешности, с которой Гавейн хочет покончить с делом. «На этот раз я плачу первым!» — восклицает он, выбегая навстречу лорду (и, как всегда, заходит дальше, чем нужно. Дает он при этом обещание или нарушает его — дела не меняет) (строки 1932—4). Следовательно, только в этот момент и только здесь мы можем поймать Гавейна за руку. «На этот раз я первым исполню наш уговор», — говорит Гавейн и тут же нарушает главное условие этого уговора. Он умалчивает о поясе. И ему неловко. «Достаточно!» — восклицает он, когда лорд (со значением, которое Гавейну еще не понятно, равно как и нам, пока мы не прочитали историю до конца) говорит, что лисьей шкуры маловато в обмен на три столь ценных «сокровища»1, как поцелуи.
Итак, Prid tyme prowe best1 («третий раз решает все»), но at Ре find pou fayled pore2 («на третий раз ты крупно оплошал»). Я вовсе не утверждаю, что Гавейн не «оплошал» вообще, да и главная мысль автора совсем не в этом. Я лишь обращаю внимание на то, в какой степени и на каком плане «оплошал» Гавейн с авторской точки зрения, — если в этом возможно разобраться. Именно подобные проблемы больше всего интересовали автора поэмы. Исходя из деталей, естественно заключить, что автор выделял три плана (уровня): уровень простых, шуточных игр, вроде той, что затеяли Гавейн и хозяин замка; уровень куртуазии, то есть «придворных», или вежливых, манер (16), куда входит в числе прочего особое, почтительное отношение к женщине. Но в кодекс галантных манер может включаться — как его составная часть — и более серьезный, а потому и более опасный кодекс «игры» в «куртуазную любовь». А правила этого кодекса подчас конфликтуют с законами нравственности. И наконец, третий уровень: уровень реальной нравственности, реальных добродетелей и грехов. Эти три уровня, три плана могут вступать в конфликт. И в таких случаях следует подчиняться законам высшего плана. По прибытии Гавейна в замок создается сразу несколько ситуаций, чреватых подобными конфликтами, почему перед Гавейном и возникает каждый раз дилемма: как поступить? Автора интересует главным образом конфликт между куртуазностыо и добродетелью (в данном случае двумя добродетелями — чистоты и верности). Он показывает нам все увеличивающееся расхождение конфликтующих сторон и дает понять, что в кризисной ситуации искушения Гавейн видит это расхождение и выбирает добродетель, хотя не изменяет при этом и куртуазности, требующей изысканности в манерах и благородства в речах. Я полагаю, сценой исповеди автор намеревался показать, что низший уровень, шутливая игра, не имеет в конечном итоге вообще никакого значения. Впрочем, прежде он позабавился, вскрыв характерную дилемму, какие искусственная куртуазная учтивость способна порождать даже на нижнем уровне — уровне игры. В случае с поясом вопросы греха и добродетели затронуты не были. Поэтому Гавейн поставил законы рыцарственной учтивости выше и подчинился леди, хотя это вынудило его нарушить слово (пусть в достаточно несерьезной игре). Но увы, как сказал бы, я полагаю, наш автор: на самом деле законы искусственной учтивости не могли оправдать Гавейна и здесь, поскольку (в отличие от законов морали) они не имеют высшей, универсально значимой ценности. Да и апеллировать к этим законам он мог бы лишь в том случае, если бы для него не было в поясе корысти и он принял бы его только из нежелания показаться неучтивым. Но корысть была. Не соблазнись Гавейн поясом — а что, если тот и правда волшебный? — ему бы не пришлось, вопреки договору с лордом, утаивать подаренное. При этом корысть у Гавейна была вполне понятная — он не хотел умирать. А решение испытать пояс никоим образом не противоречило изначальному договору Гавейна с Зеленым Рыцарем. Противоречило оно только уговору с хозяином замка, с виду нелепому и чисто шуточному. Вот этот-то уговор Гавейн и нарушил, вот тут-то он и оплошал.
2 Слова Зеленого Рыцаря, которые он произносит, готовясь нанести Гавейну третий удар (первые два раза Зеленый Рыцарь только замахнулся, поскольку в первые два дня в замке Гавейн сдержал свой уговор с лордом) «Thou didst fail on the third day» (94) («В третий день ты оплошал»).
Каждый из выявленных нами «уровней», или «планов», имеет не только собственное законодательство, но и собственную коллегию судей. Нравственным законом ведает Церковь. Lewte, «правила игры», просто игры как уговора между игроками, находится в ведении Зеленого Рыцаря, который говорит о происшедшем1, посмеиваясь, в квазирелигиозных выражениях2, хотя (и это видно) речь идет только об игре: с высшими материями к этому моменту уже разобрались. На острие — «исповедь» и «епитимья». Куртуазия же находится в ведении высшей инстанции по часта рыцарских обычаев: это — Двор короля Артура, суд kydde cortaysye3 («прославленных рыцарей»); однако на этом суде самообвинение истца высмеивается..4 Но есть и еще один суд: тот, что вершит над собой сам сэр Гавейн. Заметим сразу, что судить о себе беспристрастно он не способен и что его суд нельзя считать правомочным. Во-первых, Гавейн чрезвычайно взволнован и не на шутку расстроен, что, впрочем, вполне естественно: весь его «рыцарский кодекс» развалился на куски, а вдобавок еще и гордость сильно уязвлена. Его первый бурный упрек самому себе5 едва ли более справедлив, чем последующая горькая инвектива в адрес всех женщин как таковых6 (17).
2 Слова Зеленого Рыцаря в ответ на покаянное признание Гавейном своей вины и обвинение себя в жадности и трусости (в пер. Толкина: «Thou hast confessed thee so clean and acknowledged thine errors, and hast the penance plain to see from the point of my blade, that I hold thee purged of that debt, made as pure and as clean as hadst thou done no ill deed since the day thou wert born» (подчеркивание наше. — Пер.), то есть: «Ты полно, чисто исповедал мне свой грех, и признал свои ошибки, /и получил епитимью, следы которой видны на лезвии моего топора, / так что я считаю, что я освободил и разрешил тебя от твоего долга и очистил тебя, / как если бы ты со дня, когда родился, не совершил ни единого дурного поступка») коррелируют со сценой исповеди Гавейна (ср. в пер. Толкина: «There he cleanly confessed him and declared his misdeeds, both the more and the less, and for mercy he begged, to absolve him of them... and he assoiled him and made him as safe and as clean / as for Doom's Day indeed, were it due on the morrow», то есть «Тут он полно, чисто исповедался ему и назвал свои проступки, как большие, так и малые, и просил о милости, да получит отпущение... и священник дал ему оставление грехов, и оказался он в такой безопасности и чистоте, что, наступи завтра Судный День, ему нечего было бы бояться».
3 Среднеангл. В пер. Толкина: «Knighthood renowned» (12) — «прославленное рыцарство».
4 По возвращении Гавейн рассказывает о своем «проступке» Артуру и собравшимся рыцарям, и, хотя он обвиняет себя со всей страстью, на какую способен, «прославленное рыцарство» разражается смехом, считая, по-видимому, вину Гавейна несущественной — особенно на фоне так долго державшей всех в напряжении истории с ответным ударом страшного Зеленого Рыцаря и на фоне возвращения Гавейна, которого, разумеется, уже не чаяли увидеть живым.
5 В пер. Толкина «Cursed be ye, Coveting, and Cowardice also! / ...Through care for thy blow Cowardice brought me / to consent to Coveting, my true kind to forsake, / ...Now I am faulty and false, who afraid have been ever / of treachery and troth-breach: the two now my curse may bear!» (95) («Будьте же вы прокляты, жадность и трусость! / ...Через мое беспокойство о твоем ударе трусость заставила меня пойти на поводу у жадности и изменить моей подлинной сути... / Теперь я кругом виновен и нечестен, / я, всегда так боявшийся предать или нарушить уговор! Будьте же вы прокляты!»).
6 Гавейн сокрушается по поводу коварства хозяйки замка, а затем с пафосом вспоминает персонажей Ветхого Завета (Адама, Соломона, Самсона, Давида), потерпевших несчастье из-за женщин, и заключает. «Now if these came to grief through their guile, a gain 'twould be vast / to love them well and believe them not, if it lay in man's power!» (97) («Уж если они потерпели огорчение через женское коварство, то большой барыш был бы в том, / чтобы любить их, но не верить им, если это только в человеческих силах!»).
Тем не менее весьма интересно услышать, что имеет по этому поводу сказать Гавейн, так как это все же достаточно выпукло обрисованный персонаж, а не просто проводник неких идей и объект для исследования. Наш поэт мастерски выписал характеры своих персонажей. Хотя роль леди, когда у нее есть реплики, очень проста и следует одной-единственной линии (линии, не объясненной покуда enmity1 к Гавейну), все ее речи безошибочно узнаваемы. Еще лучше обстоит дело с сэром Бертилаком2: его поступки и речи в обеих его ипостасях — Зеленого Рыцаря и Хозяина замка — выписаны с исключительным мастерством и убедительностью. В итоге, хотя Рыцарь и Хозяин на самом деле — все же совершенно разные персонажи, в единую, цельную личность не сливающиеся, мы готовы поверить, что перед нами все время выступало одно и то же лицо. Именно это позволяет читателю, равно как и Гавейну, безо всяких вопросов поверить, что Зеленый Рыцарь и Хозяин идентичны, хотя здесь (в том изводе этой истории, какой мы встречаем в нашей поэме3) раскрытие истины обходится без каких-либо дополнительных волшебных событий вроде внезапного разрушения чар или перемены облика Рыцаря в момент, когда мы узнаем, кто он такой. Однако и Зеленый Рыцарь, и сэр Бертилак — второстепенные действующие лица, их главная функция — обеспечить создание ситуации, в которой будет подвергнут испытанию Гавейн.
2 Подлинное имя Зеленого Рыцаря, он же Хозяин замка. Выясняется, что Зеленый Рыцарь — человек, заколдованный феей Морганой (она же — пожилая спутница леди). Она же и является инициатором всего происшедшего.
3 Прямые литературные источники поэмы неизвестны. Высказываются предположения, однако, что как минимум один такой источник существовал, поскольку автор упоминает, что эта история уже была некогда записана в некой книге. Древнейшая известная версия легенды о Зеленом Рыцаре (включающая мотив отрубания головы) включена в ирландское сказание Fled Bricrend («Пир Брикри»). Герой ирландской легенды носит имя Кухулин, а Зеленый Рыцарь — не заколдованный человек, а настоящий великан.
Образ же Гавейна целиком и полностью реалистичен. Наличие небольшого изъяна (18) делает «совершенство» Гавейна более человечным и правдоподобным и потому более благородным. Однако, на мой взгляд, ничто так не придает жизненности образу Гавейна, как описание реакции этого благородного рыцаря на финальное откровение истины1. Все, что говорит и делает в этой ситуации Гавейн, подсказано ему в основном инстинктом и эмоциями. Присмотримся к контрасту между строфами, где показана эта его яркая эмоционально-инстинктивная реакция на происшедшее, и весьма красочными, но второстепенными строками, в которых, напротив, безо всяких эмоций повествуется об опасных странствиях Гавейна. И станет очевидно: поэта на деле интересует вовсе не сама волшебная история или повествование о рыцарских подвигах как таковых. А потому для этой поэмы, так целенаправленно сосредоточенной на добродетели и проблемах поведения, особенно подходит выбранный автором заключительный аккорд: он описывает реакцию истинно благородного, но не слишком-то склонного к рефлексии героя на совершенную им оплошность (беспристрастному стороннему наблюдателю эта оплошность показалась бы совершенным пустяком), на преступление против безоговорочно принятого им для себя кодекса поведения. И скольк месту сформулирован в последней части поэмы принцип двойной меры, которым должны руководствоваться все разумные и милосердные люди: чем строже к себе, тем снисходительнее к другим (19): Ре kyng comfortez ре knyзt, and alle pe court als laзen loude perat2.
2 Строфа 101. В пер. Толкина: «The king comforted the knight, and all the Court also / laughed loudly thereat...» («Король утешил рыцаря, и весь двор / громко смеялся по этому случаю...»).
Что же Гавейн чувствует и что говорит? Он обвиняет себя в couardise1 и в couetyse2. Он «стоял в глубокой задумчивости»3, —
|
в самое сердце горе и стыд уязвили; щеки нещадно пылали краской смущенья, и обрушился рыцарь на себя с обвинительной речью. Вот слова, что в горе вырвались у него невольно: «Будьте вы прокляты, буйные Трусость и Жадность, ражие сестры порока, пособницы разврата!» После пояс на чреслах развязал он поспешно, в гневе снял и под ноги рыцарю бросил. «Пред лицом своим видишь лжеца, повинного казни! Трусость пред топором меня поборола, в алчность ввергнув. Такого со мной не бывало, чтобы я доблесть и доброе имя предал! Ныне виновен я, обвинений не знавший в преступлении данного слова и в ложном обете. Наглые соблазнительницы, на вас двойная вина!» (95.3370–84)
|
2 Couetyse (среднеангл.) — алчность, жадность, стяжательство.
3 Взято из строки, которая в переводе Толкина выглядит так: «the... knight in a study then stood a long while» (стр. 95) («...рыцарь долго стоял в глубокой задумчивости»).
Позже, вернувшись ко Двору короля Артура, Гавейн пересказывает свои приключения в следующем порядке (20): тяготы пути; что произошло при встрече с Зеленым Рыцарем и как тот себя вел; ухаживания хозяйки замка; и — под самый конец! — пояс. Затем Гавейн демонстрирует шрам, который он получил как расплату за свою vnleute1:
|
Испустил он горестный стон, и стыда запылал костер на щеках его, когда он показал шрам себе на позор. «Погляди, владыка, на дивную эту награду, — молвил он, наклонившись, и молча снял с шеи пояс2. — Вот шрам, что на шее в упрек я ношу! Стыд, который на муку в удел мне оставлен за трусость и жадность, что рыцаря побороли! Мета позора изменнику, презревшему обещанье, И носить ее мне до скончания дней моих в мире». (100–1.2501–10)
|
2 В строфе 100 говорится, что Гавейн надел пояс как перевязь, завязав его узлом под левой рукой. Таким образом, пояс бросался в глаза и одновременно прикрывал шрам от топора Зеленого Рыцаря на шее Гавейна.
Две следующие строки1, хотя первая из них не вполне ясна, в совокупности (как бы их ни интерпретировали или ни исправляли), без всяких сомнений, подчеркивают: по мнению Гавейна, ничто не способно смыть с него позорного пятна. Возможно, это объясняется экзальтацией, а когда Гавейн взволнован, он неизменно впадает в экзальтацию. Но подобные чувства известны многим. Ибо человек может верить, что его грехи отпущены (как верил Гавейн), может простить их себе и даже совершенно забыть о них, однако жало стыда окончательно извлечь не удастся. Даже по прошествии многих лет оно не затупится и будет язвить по-прежнему, даже если боль отступит, потеряет прежнюю остроту и будет чувствоваться только на менее важных в отношении нравственности, а то и вовсе маргинальных планах.
Таким образом, сэр Гавейн испытывает чувство жгучего стыда, виня себя в трусости и жадности, или стяжательстве. Главное — трусость, так как именно она спровоцировала его позариться на пояс. Это должно означать, что, как рыцарь Круглого Стола, Гавейн не предъявляет Зеленому Рыцарю никаких претензий по поводу некоторой нечестности договора о Взаимном Отрубанье Головы (но считает для себя, что пояс ему использовать дозволительно, о чем говорится в строках 2282–3). Он остается верен своему слову quat-so bifallez after (382) («что бы ни случилось потом») и решает ответить на вызов Зеленого Рыцаря по той простой причине, что этот вызов — не что иное, как испытание рыцарей его ордена на абсолютную храбрость. Дав слово, он, как истинный рыцарь, обязан держать его даже под угрозой неотвратимой смерти и встретить гибель прямодушно, с неколебимой храбростью. Волею обстоятельств Гавейн оказался представителем Круглого Стола и должен был держать данное им слово, не рассчитывая на помощь со стороны. Все просто — и в то же время серьезнее некуда. И вот на этом-то «плане» Гавейн и оказался постыжен. Соответственно, его обуревают сильные чувства. В сердцах он называет себя трусом — понадеялся, дескать, с помощью дареного талисмана как-нибудь вывернуться, испугался погибать ни за что ни про что... В «стяжательстве» Гавейн обвиняет себя потому, что принял подарок от леди и ничем на него не ответил, хотя подарок леди навязала ему после двух отказов, и это несмотря на то, что Гавейну в тот момент было неважно, велика стоимость этого пояса1 или нет. Так что «стяжательством» это могло бы быть названо лишь внутри игры с Хозяином замка: Гавейн утаил от лорда часть своей waith, пожелав оставить ее себе (неважно почему).
Гавейн называет «treachery» («предательством») (21) всего-навсего нарушение правил игры, которую он не мог не рассматривать как обычную шутку или причуду (что бы ни стояло за этой игрой для того, кто ее предложил), так как вполне очевидно — какая может быть мена между охотником и тем, кто остается в замке и предается там праздному времяпрепровождению!
На этом мы закончим. Далее автор нас не ведет. Мы увидели галантного рыцаря, который получил горький урок и через это узнал, какие опасности таит в себе куртуазия. Он убедился, что в конечном итоге невозможно требовать от рыцаря безоглядного «служения» даме как «госпоже», чья воля — закон (22), и, как мы видели, в конечном итоге предпочел последовать закону более высокого уровня, так что на этом уровне Гавейна приходится признать «faultless»1 («непорочным»). Однако претензии «courtesy»2 еще не исчерпаны, и Гавейн вынужден, уже под занавес, вынести еще одну пытку: до него доходит3, что на самом деле хозяйка хотела его опозорить и все ее льстивые речи о любви к нему были притворными. В этот горький миг Гавейн отбрасывает всякую куртуазность и клеймит женщин как обманщиц:
|
...огромен был бы барыш, коль мог бы мужчина, любя их, не верить обману! (97.2420–1)
|
2 См. предыдущую сноску.
3 В строфе 96 Зеленый Рыцарь ласково приглашает Гавейна в замок на пир примирения и между прочим сообщает, что, дескать, и леди с ним теперь тоже подружится, а до этого она была его злейшей врагиней. Именно в этот момент Гавейну становится ясно, что леди с самого начала играла с ним в игру с целью поймать его на нечестивом поступке и опозорить.
Однако на этом его страдания именно как рыцаря не закончились. Его обманом заставили нарушить правила игры и изменить данному в пылу азарта слову. На наших глазах проходит он через все муки стыда за свою оплошность, совершенную, правда, на «нижнем уровне», однако накал чувств; с которым Гавейн переживает свой позор, неадекватен — он, скорее, соответствовал бы какому-нибудь проступку высшего порядка. Все это представляется мне вполне жизненным и правдоподобным, так что издевки в том, что я сейчас скажу, нет: в финале мы видим, что Гавейн, так сказать, срывает с себя School Tie1 (как недостойный носить его) и уезжает домой с white feather stuck in his hat («с белым пером в шляпе». — Пер.)2, причем в роли белого пера выступает пресловутый пояс. Но дело заканчивается тем, что рыцари постановляют принять ярко-зеленую перевязь как знак принадлежности ордену Круглого Стола и сделать ее отличительным знаком Первых Одиннадцати3, и все заканчивается всеобщим смехом на Суде Чести.
2 Словосочетание white feather («белое перо») используется с намеком на выражение a white feather in the plumage of a gamecock («белое перо в оперении бойцового петуха»). Белое перо считается признаком слабых бойцовых качеств петуха, а в переносном смысле символизирует трусость и используется обычно в выражении to show the white feather (дословно — «показать белое перо») и означает «проявить трусость».
3 First Eleven (англ.) — лучшая школьная команда по игре в крикет или в футбол.
Однако сколь соответствует все это характеру Гавейна, каким он изображен в поэме! И его чрезмерный стыд за свой поступок, и настойчивое выпрашивание у Рыцаря злополучного пояса, чтобы вселюдно выставлять его потом (хотя на этом никто не настаивает) «как знак позора», in tokenyng he watz tane in tech of a faute1 (строфа 100, строка 2488)! И как соответствует это духу и тону поэмы в целом, столь вдумчиво занятой темами «исповеди» и покаяния!
|
Grace innogh ре топ may haue Pat synnez benne new, зif him repente, Bot wyth sorз and syt he mot it craue, And byde pe payne berto is bent, — |
|
...как это в книгах о рыцарях сказано неоднократно. Чудное это чудо в дни Артура случилось, о чем Книга Брута нам правду речет; |
|
на этой земле было много разных чудес, свершенных в добре и во зле. Спаси нас, Владыка Небес с Терновым Венцом на челе! Аминь. (101.3521–30)
|
2 В среднеангл. оригинале harme. Толкин переводит это слово по-разному: как stroke («удар») (91), как harm (в контексте — «обида», осн. словарн. значение — «вред») (96) и как blemish («клеймо») (101). Общее значение можно определить примерно как «ущерб», «вред».
3 Цитата из строки «...And he honoured pat hit hade euermore after» (101, последняя строфа поэмы). В пер. Толкина: «...and honour was his that had it evermore after» — «...и стяжал себе честь навеки».
4 Гавейн с его старинной куртуазностью (среднеангл.).
5 То есть в Волшебную страну, в мир легенды.
6 Согласно легенде, впервые изложенной в «Истории бриттов» пера ирландского монаха Ненния и впоследствии изложенной у Готфрида Монмутского, Британия получила свое имя от Брута (Бритто) — потомка Энея. После гибели Трои Эней основал Рим. Его праправнук Брут перебрался из Италии в Грецию, где освободил томившихся в рабстве троянцев, и оттуда отправился с ними на север и достиг Англии, где они и поселились и назвали этот остров Британией, а себя — британцами. Есть ли под этими легендами какое-то историческое основание, неизвестно (Geoffrey Asche. Mythlogy of the British Isles. Methuen; London, 1990).
ПОСТСКРИПТУМ:
СТРОКИ 1885–921
Выше я уже говорил, что сердечная легкость и как следствие веселье могут быть и часто бывают следствием достойного принятия верным христианином Святых Тайн и совершенно не зависят от каких бы то ни было бед или забот — в случае с Гавейном это был страх перед ответным ударом Зеленого Рыцаря, страх смерти. Но это утверждение может быть, да и бывало, подвергнуто сомнению. Задавались вопросом: а не потому ли Гавейн так веселился, что заполучил пояс и мог теперь не бояться встречи с Зеленым Рыцарем? Предполагали также, что Гавейн развеселился, скорее, от безнадежности — дескать, буду есть и веселиться, ибо завтра умру!
| 1 |
И отправился на пир, и радовался с прекрасными леди,
за достойным застольем пел песни, в танцы пустился, до утра почти, как допрежь ни разу, — лишь в этот раз. |
|
Так что кто-то даже сказал:
«В каком он восторге сейчас! Он веселым таким не бывал с тех пор, как гостит у нас». (75.1885–92)
|
Однако наш автор не простец, и эпоха, с которой мы имеем дело, отнюдь не была простодушной, так что нет никакой необходимости полагать, что настроение Гавеййа можно объяснить только одним-единственным способом (в согласии с замыслом поэта). Гавейн описан автором сочувственно. Он чувствует, разговаривает и ведет себя так же, как вел бы себя в его положении любой: искал бы утешения в религии, соблазнился бы волшебным поясом (или, по крайней мере, поверил бы в его волшебные свойства), пошел бы навстречу смертельной опасности и прочее. Тем не менее я полагаю, что, поскольку строки, описывающие настроение Гавейна, расположены в поэме сразу после сцены отпущения грехов (And sypen1, 1885) и поскольку автор использовал слова ioye2 и blys3, намерение автора кажется прозрачным. Он хотел показать: именно исповедь была главной причиной того, что Гавейн так развеселился. О буйном веселье отчаявшегося человека здесь речи не идет.
2 Радость (среднеагл.).
3 Блаженство (среднеангл.).
Особое внимание следует уделить самому поясу. Веры в его действенность Гавейн не обнаруживает ни разу. Незаметно даже, чтобы он хоть сколько-нибудь надеялся на посулы леди. Так что повода впасть в столь беззаботное веселье пояс Гавейну явно не давал. Вообще говоря, складывается впечатление, что после исповеди надежда нашего рыцаря на спасительную силу пояса идет только на убыль. Правда, приняв перед исповедью хозяйкин подарок, Гавейн много и горячо благодарит леди (впрочем, столь учтивый рыцарь и не мог бы повести себя иначе). Но даже впервые услышав о том, что пояс якобы способен спасти его от неминуемой смерти (строки 1885 и далее) и находясь под особо сильным впечатлением от услышанного, а подумать надо всем этим как следует еще не успев, Гавейн, по скупому свидетельству поэта, подумал всего-навсего: «Было бы славно, если бы с помощью этой хитрости мне удалось избежать смерти». Этой не слишком-то уверенной надежды явно недостаточно, чтобы объяснить, почему Гавейн был в этот день так необычно весел. Зато ночью Гавейн спит скверно как никогда и слышит каждый крик петуха, отсчитывающий приближение часа страшного свидания с Зеленым Рыцарем. В строфе 82 (строки 2075—61) мы читаем о pat tene place per ре ruful race he schulde resayue2, что с очевидностью передает раздумья Гавейна, когда тот в сопровождении провожатого отправляется на место встречи. В строфе 85 (строки 2138–9) Гавейн прямо говорит провожатому, что уповает на Бога, Которому служит3 (24). Нечто в том же духе произносит он и в строфе 86 (строки 2158–9), определенно ссылаясь на свою исповедь и готовность к смерти: to Goddez wylle I am ful bayn, and to hym I haf me tone4. В строфе 88 (строки 2208–11) Гавейн преодолевает страх не благодаря Поясу или какому-либо упоминанию об этом «jewel for jeopardy»5, но смиряясь перед волей Божьей. В строфе 90 (строки 2255 и далее) Гавейн, как дает понять автор, ужасается неминуемой6 смерти и мучительно, но не вполне успешно старается скрыть свой страх. В строфе 91 (строки 2265—7) он ждет смертельного удара. И наконец, в строфе 92 (строки 2307—8) мы читаем: по meruayle paз hym myslyke pat hoped of no rescowe7.
2 В пер. Толкина: «...to that grievous place, / where he is due to endure the dolorous blow» (83) («...к этому горестному месту, / где он должен принять тот прискорбный удар»).
3 В пер. Толкина: «Hе may be a fearsome knave / to tame, and club may bear, / but His servants true to save / the Lord can well prepare» («Как бы ни был он страшен, этот плут, пусть и с дубинкой, но спасение Своих верных слуг Господь умеет устроить»).
4 В пер. Толкина: «With God's will I comply, / Whose protection I do own» (букв.: «Я вступлю в союз с Богом, / чьей зашитой обладаю»).
5 Букв. «Драгоценность для смертельной опасности». Осовремененная цитата из строки оригинала: Hit were a juel for pe joparde pat hym iugged were, переведенной Толкином так: «...twould be a prize in that peril that was appointed to him» (букв. «...это было бы ценно в той опасности, которая его ожидала»).
6 Рыцарь уже занес топор над шеей Гавейна.
7 В пер. Толкина: «Hе that of rescue saw no chance / was little pleased...» («He видевшему возможности спастись / это пришлось совсем не по нраву»). Когда Зеленый Рыцарь замахивается на Гавейна в третий раз, он состраивает особенно свирепую гримасу, так что «не по нраву» здесь — типичный пример приема преуменьшения (underestimation). Полностью завершающее строфу четверостишие звучит так: Реппе tas he hym strype to stryke, / And frounsez hope lyppe and browe; / No meruayle paз hym myslyke / pat hoped of no rescowe. (В пер. Толкина: «Then to srike he took his stance and grimaced with lip and brow. He that of rescue saw no chance / was tittle pleased, I know» («Тогда он изготовился ударить и задвигал губами и бровями...» и т. д., см. выше).
Итак, страх Гавейна, то, как он собирал свое мужество в кулак перед лицом смерти, — все это абсолютно согласуется с утешением, которое дала ему религия, и с тем, как повеселел он после отпущения грехов. Но это никоим образом не означает, что Гавейн верил в имеющийся у него талисман, который, как уверяла искусительница, способен был защитить его от любых ранений:
|
Кто зеленой сей лентой плотно себя препояшет, и затянет потуже, и станет ходить, не снимая, никаким топором не порубят того и не ранят: не убить его будет рукотворным оружьем. (74.1851–4)
|
Таким образом, мы с уверенностью можем утверждать, что с того момента, когда Гавейн принял в подарок пояс, — или, по меньшей мере, с момента отпущения грехов — пояс, по-видимому, не служил Гавейну особым утешением (25). Если это и не до конца справедливо для строфы 81 (строки 2030 — 40), где Гавейн надевает пояс for gode of hymseluen1, мы все равно вполне можем предположить, что после исповеди Гавейн решил не прибегать к помощи пояса, хотя из учтивости он не мог ни вернуть его, ни нарушить свое обещание держать все в тайне. В любом случае с того момента, как Гавейн пускается в путь, и до посрамившего Гавейна раскрытия истины поэт игнорирует пояс. Иными словами, он ни намеком не показывает, что Гавейн о нем хотя бы раз вспомнил. Такие спокойствие и силу духа, превосходящие природное мужество нашего рыцаря, он мог почерпнуть только в религии. Разумеется, не исключено, что такой вывод и вообще религиозная трактовка поэмы могут кому-то не понравиться, однако наш поэт смотрит на вещи именно так. И если этого не учитывать (намеренно или ненамеренно — не суть), замысел поэмы и главное в ней останутся непонятыми — по крайней мере, то, что было главным для поэта.
Тем не менее меня могут упрекнуть: я, дескать, домысливаю за автора. Если бы Гавейн не выказал никакого страха и был уверен в силе волшебного пояса не меньше, чем Зеленый Рыцарь был уверен (по more mate ne dismayd for hys mayn dintez1) в том, что магия феи Морганы2 сработает и он сможет приставить обратно свою отрубленную голову, то последняя сцена свидания Гавейна с Зеленым Рыцарем потеряла бы всю остроту. Ну хорошо, пусть магия, пусть всеобщая вера в заколдованные пояса и прочее. Но потребовалась бы весьма и весьма сильная убежденность в магических свойствах данного конкретного пояса, чтобы отправиться на подобное свидание без дрожи в коленках! Впрочем, хорошо, не будем спорить. Однако на самом деле это лишь усиливает мои позиции. Факты остаются фактами: нигде не говорится, что Гавейн искренне верил в силу пояса, пусть хотя бы только (или отчасти) в интересах повествования. Поэтому в канун Нового года он радуется вовсе не поясу. Стало быть, он радуется тому, что очистился от грехов, тем более что в тексте упоминание о радости Гавейна следует сразу за сценой исповеди, а сам Гавейн показан как человек с чистой совестью, и его исповедь не была «Святотатственной».
2 Зеленый Рыцарь, заколдованный феей Морганой (она же старшая леди), знал, что, когда, по его собственному предложению, один из рыцарей Артура или сам Артур отрубит ему голову, он без проблем сможет приставить ее обратно.
Однако независимо от нужд повествования поэт, очевидно, намеревался акцентировать внимание на нравственности Гавейна и на высших (если угодно) сторонах его характера. Именно этим автор на протяжении всей поэмы и занимается, согласуется это с унаследованным им литературным материалом или нет. Итак: Гавейн принял в подарок пояс не из одной только учтивости, а еще и потому, что соблазнился надеждой на волшебную помощь. Облачаясь для встречи с Рыцарем, он не забывает о поясе и надевает его for gode of hymseluen1 и to sauen kymself2, однако мотив волшебного оберега сведен к минимуму, и, когда дело доходит до последнего рубежа3, мы не видим, чтобы Гавейн хоть сколько-нибудь полагался на силу пояса — поскольку пояс в ничуть не меньшей степени, чем сам ужасный Зеленый Рыцарь и все его faierie4, равно как и faierie вообще, — всецело во власти Бога. В свете всего этого волшебность пояса выглядит не слишком-то убедительно — как, без сомнения, и задумал автор.
2 «Чтобы спасти себя». См. выше.
3 То есть когда Гавейн подставляет шею под топор Зеленого Рыцаря.
4 «Волшебство» (среднеангл.)
Предполагается, стало быть, что у нас не должно возникать сомнений: после исповеди совесть Гавейна чиста, и поэтому он, как любой храбрый и благочестивый (пусть не достигший святости) муж, способен перед лицом смерти укрепиться верой в милость Божию к праведникам. Причем под «праведностью» подразумевается не только стойкость Гавейна перед ухищрениями леди. В его собственных глазах все его приключение, включая договор с Зеленым Рыцарем, — праведно или, по крайней мере, оправдано. Теперь мы видим, сколь исключительно важны описанные в Песне Первой обстоятельства, из-за которых сэр Гавейн оказался вовлеченным в договор с Зеленым Рыцарем, и нам становится ясно, зачем поэт вставил в текст примечательную критику в адрес короля Артура, озвученную придворными в Песне Второй1 (строфа 29). Благодаря этому ясно, что Гавейн оказался в столь опасном положении не из-за nobelay2, не в силу какого-либо фантастического обычая или тщеславной клятвы, не потому, что кичился отвагой или считал себя лучшим из рыцарей своего Ордена. Руководствуйся Гавейн каким-нибудь из этих мотивов — и, с точки зрения строгой морали, вся эта история превратилась бы в глупое или даже предосудительное предприятие, в какие ввязываются только из бесшабашной удали и чреватое ничем не оправданным смертельным риском. Удаль, своеволие и гордыня приписаны в поэме королю3; Гавейн же оказался втянут в дело из смирения, а также из чувства долга перед королем, который к тому же приходился ему родичем. Можно живо себе представить, как автор, хорошенько подумав, решает добавить в поэму этот эпизод (с осуждением Артура придворными. — Пер.). Автор сделал обстоятельства вовлечения Гавейна в историю с Зеленым Рыцарем предметом серьезного нравственного анализа, стало быть, он не мог не прийти к выводу, что с этой точки зрения поступок Гавейна был достоин похвалы. По сути, автор использовал эту историю (или смесь разных историй) со всеми ее невероятными деталями, с ее недостатком рациональной мотивации, с ее нестыковками как средство, чтобы поставить добродетельного героя перед лицом смертельной опасности. Это положение не унижает достоинства Гавейна. По меньшей мере, оно ему вполне приличествует и уж никак не является для него ни глупым, ни ложным. Так герой вовлекается в череду искушений, которые он накликал на свою голову, не ведая того сам. Но в итоге, руководствуясь простейшими этическими правилами, он преодолевает все испытания. Ясно, что пентаграмма на щите Гавейна заменила грифона4 не случайно, а в соответствии с последовательно проведенным в жизнь общим авторским замыслом — во всяком случае, если судить по финальной версии поэмы, по тому ее виду, в каком она дошла до нас. И этот замысел, этот авторский выбор и соответствующие акценты необходимо видеть и учитывать.
2 Nobelay (среднеангл.) — достоинство, в пер. Толкина «pride» — «гордость».
3 См. характеристику Артура в начале поэмы (строфа 5).
4 С грифоном на щите изображен Гавейн на известной картине Говарда Пайла (Howard Pyle) «Сэр Гавейн, сын Лота, короля Оркнейского», иллюстрации к книге «История короля Артура и его рыцарей» (The Story of King Arthur and His Knights. New York Scribner's, 1903).
Другой вопрос, насколько все эти использованные автором приемы оправданы и удачны в плане художественном.
На мой взгляд, критика в адрес Артура и изображение Гавейна абсолютно смиренным и самоотверженным защитником королевской чести в поэме необходимы, художественно удачны и правдоподобны. Пентаграмма в тексте тоже оправдана. Дело портит (по крайней мере, на мой вкус и, полагаю, на вкус многих моих современников) разве что почти чосеровская «педантичность» ее описания, столь характерная для четырнадцатого века. Кроме того, это описание затянуто и чрезмерно усложнено. Да и технически этот пассаж оказался для нашего поэта сложноват — а он, раз избрав для себя аллитерационный стих, обязан был придерживаться его неукоснительно. Разработка темы Пояса, описание колебаний Гавейна между верой в Пояс и пренебрежением к нему вполне удачны, если не придираться к мелочам. Для сцены последнего искушения необходимо, чтобы Гавейн все же чуточку верил в волшебную силу Пояса: Пояс — единственная эффективная приманка в расставленных хозяйкой замка капканах. Не будь его, Гавейн не попался бы и не совершил бы своей единственной оплошности (на «низшем плане», где господствуют «правила игры»). Но именно эта оплошность помогает представить Гавейна реальным, живым человеком. Благодаря ей легче поверить в почти абсолютное совершенство Гавейна, тогда как математически точное совершенство пентаграммы остается отвлеченной схемой.
Однако вера в Пояс, или надежда на его эффективность, к началу последней Песни должна была быть непременно приглушена. Имей мы дело с обыкновенным рыцарским романом, безразличным к проблемам нравственности, и то вера Гавейна в Пояс испортила бы последние сцены. Недейственность Пояса как талисмана, способного защитить от ран (или возродить веру в это), от этого образа неотъемлема.1 На само деле недейственность пояса, скорее, даже несколько затушевана. И вот почему автор слишком серьезен, и, по его представлениям, рыцарь без благочестия — не рыцарь, а потому такой персонаж, как Гавейн из этой поэмы, вполне мог бы в решающий момент начисто забыть про талисман; герой какой-нибудь обыкновенной приключенческой повести — навряд ли... И все же я сожалею — не об оплошности Гавейна, не о том, что леди удалось подобрать приманку для своей жертвы, а о том, что поэт не смог придумать чего-нибудь другого, что Гавейн мог бы принять в подарок и был вынужден утаить, чего-нибудь такого, что не влияло бы на его отношение к опасному свиданию с Зеленым Рыцарем. Но сам я ничего подходящего предложить не могу, а стало быть, мое замечание, kesting such cavillacioun2, беспредметно.
2 «Предъявление подобных упреков» (среднеангл.).
«Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» по замыслу и форме остается лучшей английской поэмой четырнадцатого века, да и всего Средневековья, — за одним-единственным исключением. У нее есть соперница, претендующая, впрочем, не на верховенство, а на равенство, — мастерская поэма Чосера «Троил и Хризеида». Эта поэма обширнее, длиннее, сложнее и, возможно, тоньше, хотя мудрости или чуткости в ней не больше и определенно она менее благородна. Однако обе эти поэмы, хотя и в разных аспектах, исследуют одну и ту же проблему, так занимавшую в ту эпоху лучшие английские умы: проблему соотношения Рыцарской Учтивости и Рыцарской Любви с христианской нравственностью и Вечным Законом.
1. Наш поэт первым в Англии употребил слово «пентаграмма» (pentangle) на письме и единственным из писавших на среднеанглийском. Однако он отмечает, что англичане повсеместно называли этот символ Бесконечным Узлом (Endless Knot). Письменных свидетельств тому не сохранилось, но можно с уверенностью утверждать, что это случайность. Поэт называет пентаграмму penta(u)ngel. Эта форма указывает на то, что слово, без сомнения, широко употреблялось. Форма penta(u)ngel — искажение, по ассоциации со словом angle (угол), правильной, «ученой» формы — pentaculum. Кроме того, наш поэт, всегда внимательный к символике, говорит о пентаграмме так, словно его слушатели без труда могли себе ее представить.
2. Попытка описать эту сложную фигуру и ее символику была, пожалуй, слишком смелой даже для нашего поэта, весьма искусного в составлении длинных аллитерационных строк. В любом случае, поскольку пентаграмма так или иначе символизирует взаимосвязь религиозной веры, благочестия и учтивости (куртуазии) в человеческих взаимоотношениях, попытка поэта перечислить «virtues» (добродетели) свидетельствует о произвольности их классификации и номенклатуры, как и о постоянном, из века в век, изменении значений слов, которыми они обозначаются (например, таких, как pite1 или fraunchyse2.
2 Fraunchyse (среднеангл.) franchise — «щедрость», «великодушие», «любовь».
| 3. |
|
4. Однако в критической литературе, я думаю, этим моментом занимались как раз чересчур подробно. Правда, насколько мне известно, один момент критики оставили без внимания. Автор подчеркивает, что waith1, которую лорд затем отдает Гавейну, он добыл самолично, без помощи других охотников. В случае с кабаном (второй день. — Пер.) и лисицей (третий день. — Пер.) это очевидно. На это специально указано и в отношении добытого во время первой охоты:
|
В тексте поэмы упомянут некий «the best» (1325)1, который присматривает за свежеванием добычи. Среди охотников явно не было никого, равного лорду по знатности, так что Хозяин замка, по-видимому, и есть этот самый «the best». В оригинале здесь употреблено слово didden2 (1327) (разделывали. — Пер.), которое, очевидно, представляет собой одну из многочисленных описок в рукописи, — множественное число вместо единственного. По-видимому, переписчику было не вполне ясно, о чем идет речь. А говорится здесь вот что: лорд выбрал самую жирную часть venysoun3 (1375) и собственноручно разделал ее так, чтобы ее можно было «предъявить» Гавейну. Кому-то покажется, что это мелочи, не имеющие прямого отношения к делу, однако я полагаю, этот момент напрямую связан с темой верности своему слову (lewte), той самой темой, которая подвергается в поэме столь подробному исследованию.
2 Didden (среднеангл.) — «разделывать». В ориг. строки, включающие это слово, выглядят так: «Gedered be grattest of gre pat per were, / And didden hem derdy vndo as pe dede askez» (53). В пер. Толкина: «..the master... gathered together those greatest in fat / and had them riven open rightly, as the rules require» («...хозяин... отобрал самых жирных оленей и разделал их, как того требуют правила»). Свежует оленей сам хозяин, о чем здесь говорится недвусмысленно, поэтому и глагол «разделал» должен был бы стоять в ед. ч.
3 Venysoun (древнеангл.) — (......) В ориг. строка, включающая это слово, выглядит так: «Verayly his venysoun to fech hym byforne...» (55). В пер. Толкина: «...to fetch there forthwith his venison before him» («...чтобы положить перед ним дичь (оленину)».
5. Разве что у излишне начитанных. Но и они должны бы понимать, что нам предлагается смотреть на все глазами Гавейна и чувствовать, как он, а у него подозрений не возникло.
6. Я имею в виду, что, задай мы автору этот вопрос, он не замедлил бы с ответом, поскольку придумал все это сам, особенно все, что касается нравственности; и я полагаю, его ответ не сильно отличался бы от того, что пытаюсь сказать я (разве что был бы выражен средствами его эпохи).
7. Его противление искушению и впрямь основано в первую очередь на его вере, так как он не видит для себя во всем происходящем иной опасности, кроме как «совершить грех». Поведение Гавейна базируется на ясной нравственной основе, без примеси страха перед волшебными силами или перед угрозой разоблачения.
8. Можно добавить, поэт, который почти наверняка написал «Перл» (Pearl), не говоря уже о «Чистоте» (Purity) и «Терпении» (Patience).
9. Поскольку эффективность исповеди целиком зависит от настроя кающегося и никакие слова священника не способны исправить внутреннюю расположенность ко злу или покрыть сознательное умолчание о грехе, в котором кающийся отдает себе отчет.
10. Разумеется, я не утверждаю, что формальный договор1, даже в игре, не имеет никакого нравственного смысла и не предусматривает никаких обязательств. Но я подчеркиваю, что, с точки зрения автора, рождественские игры вроде той, в которую играли Хозяин замка и Гавейн, находятся на другом плане. К этому я еще вернусь.
11. Гавейн прибавляет к понятию synne (грех. — Пер.) дополнительные соображения, которые представляют грех еще более ужасным и отвратительным: в этой ситуации греху сопутствует еще и предательство — нарушение законов гостеприимства. Это не только верно с точки зрения этики, но и соответствует характеру Гавейна. Мы видим здесь, что он отвергает прямое предательство, которое и впрямь было бы греховным поступком, так что впоследствии нетрудно оказывается по справедливости оценить, чего на самом деле стоит незначительное нарушение правил игры, в котором он позже обвиняется.
12. Так характеризует своего героя-рыцаря Чосер: perfit gentil knight, который never yet no vueinye sayde1.
13. Назвал бы Гавейн предложение леди словом «vileinye», другой вопрос. Но поступки лорда и леди в поэме никак не оцениваются. Рассмотрению подлежат лишь поступки Гавейна как олицетворения рыцарской учтивости и благочестия. Поступки и речи других персонажей служат исключительно созданию ситуаций, в которых мог бы раскрыться характер Гавейна и стали бы ясны его поступки.
14. Впоследствии он успешно искупает свою поспешность, причем точно с той же горячностью, — рассказывая об этом всем и каждому.
15. Если бы мы были расположены подвергнуть эту сказочную подробность тщательному исследованию, для которого она, как слишком легковесная, не очень-то подходит, мы, возможно, могли бы заметить, что поцелуй — не предмет мены, да и в любом случае, если не названо имя того, кто подарил этот поцелуй, не очень-то правильно меняться поцелуями жены с ее же супругом... Но даже эту тонкость автор не оставил без внимания. Два притворных удара топором, возможно, были boute scape (94.2353) и не поранили Гавейна, но все-таки и безболезненными они никак не были. Зеленый Рыцарь (он же сэр Бертилак), похоже, вовсе не считал, что принимать поцелуи от его жены, пусть даже единственно из вежливости, — пустяк, недостойный упоминания.
16. В обычном, мирском смысле. Если поэма «Перл» действительно принадлежит перу нашего автора (а мне это представляется несомненным), он усложнил дело для тех, кто хотел бы понять его замысел и взгляды как единое целое. В «Перле» он использует слова «куртуазия» и «придворные манеры» в более возвышенном смысле, чем обычно: тут речь идет уже не о тех манерах, что приняты при земных королевских дворах, но о тех, что приняты при Дворе Небесном. Это — Божественная Щедрость и Милость, подлинные смирение и милосердие Благословенного, то есть дух, из которого проистекают в том числе и мирские «манеры», мирские вежливость и куртуазия, если они — живые, искренние и чистые. След этих авторских размышлений можно усмотреть в объединении им clannes1 и cortaysye2 (28.653) в посвященной человеческим отношениям «пятой пятерке» добродетелей, символизированных пентаграммой на щите Гавейна.
2 «Рыцарственность», «рыцарственная учтивость», «куртуазия». Среднеангл.
17. Эта инвектива может показаться на первый взгляд неудачной, даже если это единственное неудачное место в поэме. И действительно, как мне кажется, упрек женщинам облечен здесь в форму, в устах Гавейна едва ли уместную. Полное впечатление, что эти строки принадлежат скорее auctor'y1, нежели его герою, а по стилю это — типичный образец клерикального педантизма. Однако, если копнуть поглубже, станет видно, что характеру Гавейна они не противоречат. Гавейн, как он изображен в поэме, вполне мог бы произнести такие слова, и в свете его реакции на только что происшедшее они вполне убедительны. Гавейн всегда заходит несколько дальше, чем требуется. Так, здесь он мог бы ограничиться констатацией: мол, многие мужи и пославнее меня были обмануты женщинами, так что и мой поступок отчасти извинителен! Никакой нужды изрекать, что, дескать, как было бы полезно для мужчин, если бы они могли любить женщин, но при этом ни в чем им не доверять. Однако Гавейн не удержался. Впрочем, такая несдержанность в подобной ситуации вполне естественна, причем не только для этого конкретного рыцаря, Гавейна. Любой благородный дворянин, чьей учтивостью и гордостью воспользовались бы, чтобы выставить его на посмешище, в такой ситуации мог бы точно так же вспылить: ах так! значит, любые отношения с женщинами — не более чем игра и иллюзия! — восклицает Гавейн — в тот миг и при тех обстоятельствах.
18. Хотя можно предположить что Гавейну не удалось бы так близко подойти к совершенству, если бы он не избрал своим идеалом абсолют, математическое совершенство, символизированное Пентаграммой.
19. И при этом зачастую чем милосерднее, тем снисходительнее, как мы видим на примере некоторых особо строгих к себе святых.
20. Соблюдение порядка здесь, по-видимому, не слишком важно (и, строго говоря, невозможно). Значение имеет только отнесение рассказа о поясе на самый конец.
21. Это слово в английском языке не всегда имело такие суровые коннотации, как теперь. Первоначально оно не было связано со словами «treason» («измена») и «traitor» («изменник, предатель»)1, однако по ассоциации с ними стало обозначать только самые подлые и низкие случаи нарушения данного слова, связанные с нанесением серьезного ущерба.
22. Разве что она сама подчиняется некоему закону, высшему, чем ее прихоти или «закон любви».
23. Цитата из «Рассказа сквайра» Чосера. Отрывок, куда входит эта строка (в русском переводе О. Румера: «...С таким изяществом и знаньем правил, / Что сам Гавейн его бы не поправил, / Когда б вернуться снова к жизни мог / Сей рыцарских обычаев знаток» (Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказы, М., 1973. С. 398. — Пер.).
24. Хотя и Пояс мог бы быть орудием Божьим — в мире, где такое возможно и узаконено.
25. Интересный ход, который поэт не мог сделать ненамеренно: чтобы заполучить пояс, Гавейн нарушил условия игры с хозяином и тем самым допустил единственный огрех на фоне своего в остальном на всех планах безупречного поведения; однако пояс ему в итоге так и не послужил (даже надеждой на спасение).
26. [В тексте издания ссылка на эту сноску отсутствует. — Прим. кодера.] Однако по отношению ко всему корпусу легенд об Артуре такое третирование этого персонажа может рассматриваться, скорее, как прискорбное. Лично я не думаю, что принижение образа короля (как sumquat childgered1) может привести к чему-либо хорошему.
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» создана в конце четырнадцатого столетия или ранее и существует только в одном списке — в Cottonian Collection, Nero A X, Британский музей. Автор поэмы неизвестен, однако предполагается, что его перу принадлежит еще несколько анонимных произведений, собранных в той же рукописи, где записан «Сэр Гавейн». Поэма написана аллитерационным стихом (так называемой «длинной аллитерационной строкой»), традиция которого пришла в Англию от скандинавских поэтов (скальдов). После норманнского завоевания аллитерационная поэзия пришла в упадок, к шестнадцатому веку была практически забыта и возобновилась только через несколько столетий (так называемое «аллитерационное возрождение»). Аллитерационный стих характеризуется отсутствием концевой рифмы и наличием аллитераций, то есть ряда созвучных ударных слогов. Аллитерируют находящиеся под ударением слоги, которые имеют одинаковые опорные (первые в слоге) согласные (гласные могут быть различными). Поскольку в английском языке ударение падает, как правило, на первый в слове слог, в английском аллитерационном стихе чаще всего (хотя и не всегда) аллитерируют первые слоги слов. Однако в русском языке ситуация с ударениями существенно иная, и аллитерации как следствие гораздо чаще приходятся на середину слова, а то и на конец. Например: «ЩЁки неЩАдно пылали краской смуЩЕнья». Это приводит к «визуальным» отличиям английского текста от русского: в английском при взгляде на страницу кажется, что суть — в обилии слов, начинающихся на одну букву. Аллитерационный стих поэмы содержит, как правило, пять ударений. Каждая строфа заканчивается «припевом» — рифмованным пятистишием, первая короткая строка которого («подвеска») имеет одно ударение, а остальные четыре («колесико») — по три ударения. Схема рифмовки припева — АбАбА. В итоге — вместе с основной частью — получается то, что иногда называют «строфой Гавейна». Эта структура строфы создает особый ритм повествования: монотонность «длинных строк» прерывается энергичными «ступеньками», как если бы течение широкой реки прерывалодь невысокими водопадами. В «припевах» подводятся итога, суммируется содержание предыдущих строк (уже иными поэтическими средствами!), аккумулируется энергия для дальнейшего развития действия. Структуру поэмы сравнивали с ожерельем, где ряды мелких камней перемежаются вкраплениями камней побольше и иного рода. Для русского читателя такая версификационная форма непривычна и знакома только по некоторым переводам скальдических и древнеанглийских поэтических текстов. Что-то отдаленно знакомое для человека, знакомого с русской силлабической традицией, аллитерационный стих собой напомнит, но по линии силлабики русская поэзия не пошла, заимствовав из той же Европы другие, лучше привившиеся в языке образцы — силлаботонические.
Главный герой поэмы — рыцарь Круглого Стола Гавейн — в Артуриане традиционно считается племянником Артура. Его отец — король Лот Оркнейский. Среди его братьев — рыцари сэр Агравейн, Гахерис и Гарет. Во французских куртуазных романах (и в «Смерти Артура» Томаса Мэлори, где образ Гавейна далек от образа изысканного рыцаря-джентльмена, выведенного в поэме «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь») Гавейн играет обычно второстепенную роль, в английских (например, The Greene Knight, The Jeaste of Sir Gawain) выходит на первый план.
Толкина поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» интересовала на протяжении почти всей его сознательной жизни (ко времени его взросления существовало уже несколько различных переводов этой поэмы на современный антлийский язык). Впервые он познакомился с ней в возрасте пятнадцати или шестнадцати лет. Вплотную ему довелось заняться «Сэром Гавейном» в первой половине 1920-х гг.: занимая профессорскую кафедру в Лидсе и завершив в 1922 г. совместно с коллегой по университету Эриком Валентином Гордоном издание Словаря среднеанглийского языка, он опять-таки совместно с Гордоном приступил к подготовке научного издания «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря» — до этого достаточно добротного научного издания поэмы, пригодного для работы со студентами, не существовало, В 1925 г. книга вышла из печати. Собственный перевод поэмы Толкин объявил законченным только в 1953 г., то есть работа над ним затянулась почти на тридцать лет. В том же 1953 г. на радиостанции Би-би-си была осуществлена радиопостановка по толкиновскому переводу «Сэра Гавейна», однако до публикации при жизни Толкина дело так и не дошло (по вине самого Толкина, который медлил поставить точку в работе и продолжал с течением лет совершенствовать свой перевод). Перевод был опубликован только в 1975 г. с предисловием Толкина, написанным еще в 1953 г., и под одной обложкой с двумя другими средневековыми поэмами, предположительно того же автора (в нашем переводе «Перл» и «Сэр Орфео»), тоже в переводе Толкина.
Лекцию о «Сэре Гавейне и Зеленом Рыцаре» Толкин прочел в том же 1953 г. в университете Глазго, на чтениях памяти У. П. Кера. Примечательно: Толкин предполагает в своих слушателях знакомство со среднеанглийским оригиналом, по меньшей мере — с какими-нибудь из существовавших на тот момент переводов, однако находит нужным все же пересказать сюжет — и делает это параллельно изложению собственных мыслей, превращая лекцию в историю не менее увлекательную, чем сама поэма.
Некоторые исследователи считают, что работа с поэмой оказала влияние и на творчество самого Толкина: Джон М. Файлер1, например, проводит параллель между Гавейном и Фроди (возьмем наугад один из примеров — и Фроди, и Гавейн не выдерживают испытания до конца, оба раза уступая тому, что сильнее их, и на всю жизнь сохраняют на своем теле след этого — у Гавейна это шрам на шее, Фроди теряет палец), М. Ю. Миллер2 — между Зеленым Рыцарем и Томом Бомбадилом (в силу того, что Зеленого Рыцаря более древних легенд часто считают олицетворением сил природы). Однако другие исследователи (например, Роджер Шлобин3) этих идей не поддерживают — влияние могло быть лишь самым косвенным, по характеру все эти персонажи очень отличаются друг от друга. Сэр Бертилак и его супруга — марионетки в руках феи Морганы (которая показывается в поэме лишь на мгновение); таким образом, замечает Р. Шлобин, структурно эти персонажи соответствуют скорее назгулам, полностью подвластным воле Саурона, остающегося во «Властелине колец» за кадром. Однако такая параллель сама обличает свою несостоятельность (все же Гавейн и Зеленый Рыцарь расстались друзьями, расстаться же «друзьями» с назгулом невозможно: в поэме невольная служба фее Моргане, по-видимому, не оставляет следа на сэре Бертилаке, у Толкина же служба злу неизбежно разрушает личность того, кто пошел на службу злу). Примечательно также, что в своей статье Толкин о фее Моргане и о ее роли в поэме почти совсем не упоминает. Но легко заметить, что, извиняя «оплошность» Гавейна, Толкин «извиняет оплошности» и положительных героев «Властелина колец»; «Сэра Гавейна» нельзя без натяжки числить среди прямых источников «Властелина колец», однако сравнение толкиновской статьи о «Сэре Гавейне» и «Властелина» может дать пищу для размышлений. Наводят на размышление слова Толкина о замке сэра Бертилака: этот замок — гнездо волшебства, однако в его описании нет ничего потустороннего или призрачного, все реально; так же реален и фантастический мир, встающий со страниц «Властелина колец». Таких косвенных параллелей можно насчитать много.
2 Miller M. Y. Of sum mayn meryale, bat he myst It trawe // The Lord of the Rings and Sir Gawain and the Green Knight: Studies in Medievalism 3.3 (Winter, 1991).
3 Shlobin Roger C. Monsters and Transgressions // J. R. R. Tolkien and His Literary Resonances: Views of Middle-Earth, ed. by George Clark and Daniel Timmons Greenwood Press. London, 2000 P. 71–81.
Роджер Шлобин завершает свою статью о «Властелине колец» и «Сэре Гавейне» так: «...Эпос Толкина разделяет с «Сэром Гавейном» безусловную преданность отвечающей за себя добродетели; не исключено, что эта преданность — результат давнего влияния великой средневековой поэмы на впечатлительного подростка».
СОЧИНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
В ПРИМЕЧАНИЯХ И КОММЕНТАРИЯХ
Адомнан. «Житие святого Колумбана»
Adomnan's Life of Columba / Ed. and trans, by late A. O. Anderson and by M. J. Anderson. Revised by M. J. Anderson. Oxford, 1991.
Беда Достопочтенный. «Церковная история народа англов»
Baedae Opera Historica. Vol. 1–2 / Ed. С. Plummer. Oxford, 1896. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., вступит, статья, комментарии В. В. Эрлихмана. СПб., 2001.
«Беовульф»
«Беовульф» / пер. В. Г. Тихомирова // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 27–180.
«Вессонбургская молитва»
Вессонбургская молитва / Пер. Т. Сулиной // Зарубежная литература средних веков. Нем., исп., англ., чеш., польск., серб., болг. литературы. М., 1975. С. 17. [Вессонбургская — вероятно, опечатка, т. к. в указанном источнике молитва именуется Вессонбрунской. — Прим. кодера.]
«Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь»
Sir Gawain and the Green Knight / 2nd ed. Ed. by J. R. R. Tolkien and E. V. Gordon revised by. Norman Davis. Oxford, 1967. «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» / Пер. В. П. Бетаки. М., 2003.
Гервазий Тильсберийский. «Императорские досуги»
Gervasius Tilsberiensis. Otia Iroperialia / Ed. G. W. Leibnitz // Scriptore rerum Brunsvicensium. Hannover, 1707–1710. Vol. I. S. 881–1004. Vol. II. S. 751–784. Des Gervasius von Tilbury Otia Imperialia / Hrsgbn. von F. Leibrecht Hannover, 1856.
Древнеанглийская поэзия («Видена», «Морестранник», «Скиталец», «Битва при Финнсбурге», «Битва при Брунабурге», «Битва при Мэлдоне»)
Древнеанглийская поэзия / Изд. подгот. В. Г. Тихомиров и О. А. Смирницкая. М« 1982.
«Житие святого Христофора»
Three Old English Prose Texts / Ed. S. Rypins. London, 1924. (Early English Text Society. Vol. 88). P. 108–110.
«Книга о зверях и чудовищах»
Liber monstrorum / Introduzione, edizione, versione e commento di Franco Persia. 1976. Pfister F. Kleine Schriften zum Alexanderroraan // Beitrage zur klassischen Philologie, 61. 1976. P. 382–393. Haupt M. Opuscula. Lipsiae, 1876. Vol. II. P. 218–252.
Ненний. «История бриттов»
Lot F., ed. Nennius et 1'Historia brittonum. P., 1934. T. I–III. Нений. История бриттов / Пер. с лат. А. С. Бобовича // Гальфрид Монмутский. История бриттов; Жизнь Мерлина / Изд. подгот. А. С. Бобович, А. Д. Михайлов, С. А. Ошеров. М., 1984.
Павел Дьякон. «История лангобардов»
Pauli historia Langobardorum edentibus L. Bethman et G. Waitz // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum et italicaram saec. VI–IX. SS. 12–192.
«Послание Александра Аристотелю о чудесах Индии»
Kleine texte zum Alexanderroman: Commonitorium Palladii, Briefweshsel zwischen Alexander und Dindimus, Brief Alexanders uber die Wunder Indiens / Hg. F. Pfister. Heidelberg, 1910. (Sammlung vulgarlateinischer Texte. Hf. 4). Epistola Alexandri Magni ad Aristotelem / Ad codicum fidem ed. et comm. critico instr. W. W. Boer. Meisenhem am Glan, 1973. (Beitrage zur Klassischen Philologie. Heft. 50).
«Прорицание вёльвы»
«Прорицание вёльвы» / Пер. А. Корсуна // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 183–190.
«Путешествие сэра Джона Мандевилля»
Mandeville's Travels / Texts and translations by M. Letts. London, 1953. Vol. I–II.
«Римские деяния»
Gesta Romanomm / Ed H. Oesterley. Berlin, 1872.
«Сага о Вёльсунгах»
«Сага о Вёльсунгах» / Пер. Б. И. Ярхо. М.–Л., 1934.
«Сага о названных братьях»
Сага о названных братьях // Исландские саги / Пер. прозаич. текста с древнеисл. и общ. Ред. А. В. Циммерлинга. Стихи в пер. Ф. Б. Успенского и А. В. Циммерлинга. М., 2000.
«Сага о Скильдингах» и «Перечень шведских конунгов»
Skojoldunga saga i Arngrim Jonssons udtog / A. Olrik // Aarboger for nordisk Oldkydighed og Historic. 1894. R II. В. 9. S. 83–164.
Саксон Грамматик. «Деяния датчан»
Saxo Grammaticus. Gestae Danorum [http://www.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/index.htm]
Фома из Кантимпрэ, «О природе вещей»
Thomas Cantimpretanus. Liber de Natura Rerum / Editio priceps secundum codices manuscriptos. Ed. H. Boese. Teil I: Text. Berlin-New York, 1973. Friedman J. B. Thomas of Cantimpre DE NATURIS RERUM: Prologue, Book III and Book XIX // Cahiers d'Etudes Medievales. 1974. Vol. II. P. 107–154.
«Чудеса Востока»
De Rebus in Oriente Mirabilibus (Lettere de Farasmanes) / Edition synoptique accompagnee d'une introduction et notes par C. Lecoteux. Meisenhem am Glan, 1979. (Beitrage zur Klassischen Philologie. Heft. 103).
Яков Ворагинский. «Золотая легенда»
Jacobi a Voragine Legenda Aurea vulgo Historia Lombardica dicta / Rec. Th. Graesse. Lipsae, 1850.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Asche Geoffrey. Mythlogy of the British Isles. London, 1990.
Chadwick H.Munro. The Heroic Age. Cambridge, 1912.
Chadunck Nora K. The Monsters and Beowulf // The Anglo-Saxons: Studies Presented to Bruce Dickins. Ed. Peter Cfemoes, 1959. P. 171–203.
Chambers Raymond Wilson. »Beowulf”: An Introduction to the Study of the Poem with a Discussion of the Stories of Ofta and Finn. Cambridge, 1921.
Chambers R. W. »Foreword.” Beowulf Translated Into Modern English Rhyming Verse / Ed. Archibald Strong. London, 1925. P. XII–XXXII.
Chambers R. W. »Beowulf”: An Introduction to the Study of the Poem with a Discussion of the Stories of Offa and Finn. 2nd ed. Cambridge, 1932.
Chambers R. W. »Beowulf”: An Introduction to the Study of the Poem with a Discussion of the Stories of Offa and Finn. With a supplement by Charles LWrenn. 3rd ed. Cambridge, 1959.
Chambers R. W. Widsith. A study of Old English heroic legend. Cambridge, 1912.
Clark Hall John R., trans. Beowulf and the Finnsburg Fragment A Translation Into Modern English Prose. London, 1911.
Clark Hall J. R., trans. Beowulf and the Finnesburg Fragment / Rev. Charles L Wrenn. London, 1949.
Cockayne 0., ed. The Shrine: A Collection of Occasional Papers on Dry Subjects. London, 1864–70.
Earle John. The Dawn of European Literature: Anglo-Saxon Literature. London, 1884.
Earle J., trans. The Deeds of Beowulf: An English Epic of the Eighth Century Done Into Modern Prose. Oxford, 1892.
Fyler John M. Frenchman composition: Epic and Romance approaches to teaching »Sir Gawain and Green Knight”. New York, 1986.
Girvan Ritchie. »Beowulf” and the Seventh Century: Language and Content. London, 1935.
Hoops Johannes. Kommentar Zum Beowulf. Heidelberg, 1932.
Ker William Paton. The Dark Ages. N.Y., 1958.
Ker W. P. Epic and Romance. 2nd ed. London, 1896.
Ker W. P. English literature: Medieval. New York, 1912.
Kaye Anfield. Three Arthurian Misfits of »Gawain and the Green Knight”. London, 1995.
Kieman Kevin S. The Eleventh-Century Origin of Beowulf and the Beowulf Manuscript // The Dating of »Beowulf” / Ed. Colin Chase. Toronto, 1981. P. 9–22.
Kiernan K. S. »Beowulf” and the »Beowulf Manuscript”. New Brunswick, 1981.
Klaeber Friedrich. Beowulf s Character // Modern Language Notes 17 (1902). P. 162.
Klaeber F. Die Christlichen Elemente Im Beowulf // Anglia 35/36 (1911/12). P. 111–36, 249–70, 453–82,
Klaeber F. Textual Notes on Beowulf // Modern Language Notes 34 (1919). P. 129–34.
Klaeber F. ed. Beowulf and The Fight at Finnsburg. Lexington, Mass., 1922.
Klaeber F. Der Held Beowulf in Deutscher Sagenuberlieferung? // Anglia 46 (1922). P. 193–201.
Klaeber F. Rev. of Kommentar Zum »Beowulf” By Johannes Hoops (Heidelberg, 1932) // Englische Studien 68 (1933). P. 112–15.
Klaeber F., ed. »Beowulf” and »The Fight at Finnsburg”. 3rd ed. Lexington, Mass., 1950.
Lord Albert Bates. Beowulf and Odysseus // Frankiplegius: Medieval and Linguistic Studies in Honor of Francis Peabody Magoun, Jr. / Ed. Jess B. Bessinger, Jr. and Robert Payson Creed. New York, 1965. P. 86–91.
Lord A. B. Interlocking Mythic Patterns in »Beowulf” // Old English Literature in Context: Ten Essays. Ed. John D. Niles. Cambridge, 1980. P. 137–42.
Lord A. B. »Beowulf” and the Russian Byliny // De Gustibus: Essays for Alain Renoir / Ed. John Miles Foley, J. Chris Womack and Whitney A. Womack. New York, 1992. P. 304–323.
Miller Miriam Younderman. «Of sum mayn meryale, bat he myst It trawe» // The Lord of the Rings and Sir Gawain and the Green Knight. Studies in Medievalism 3.3 (Winter 1991).
Shippey Tom. Tolkien And Iceland: The Philology Of Envy [http://www.nordals.hi.is/shippey.html]
Shlobin Roger C. Monsters and Transgressions // J. R. R. Tolkien and His Literary Resonances: Views of Middle-Earth / Ed. by George Clark and Daniel Timmons. London, 2000. P. 71–81.
Tolkien John Ronald Reuel. »Beowulf”: The Monsters and the Critics // Proceedings of the British Academy 22 (1936). P. 245–95.
Tolkien J. R. R. Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son // Essays and Studies by Members of the English Association 6 (1953). P. 1–18.
Tolkien J. R. R. On Fairy Stories; Tree and Leaf. London, 1964. P. 3–86.
Tolkien J. R. R., ed. The English Text of the Ancrene Riwle: »Ancrene Wisse” / Ed. from MS. Corpus Christi colledge Cambridge 402 by J.R.R. Tolkien. With introd. By N. R. Ker. Oxford, 1962.
Tolkien J. R. R., ed. The Old English »Exodus” / Text, translation and comm. by. J. R. R. Tolkien. Ed. by J. Turville-Petre. Oxford, 1981.
Tolkien J. R. R. The Monsters and the Critics and Other Essays / Ed. by Christopher Tolkien. London, 1983.
Tolkien J. R. R. Prefatory Remarks on Prose Translation of »Beowulf” // »Beowulf” and the »Finnesburg Fragment” a Translation into Modern English Prose by John R. Clark Hall / New ed., completely revised, with notes and an Introduction by C. L. Wrenn, [and] with Prefatory Remarks by J. R. R. Tolkien. London, 1940. P. VIII–XLI.
Tolkien J. R. R. Finn and Hengest: The Fragment and the Episode / Ed. Alan J. Bliss. London, 1982.
Wrenn Charles L., ed. »Beowulf”, with the »Finnesburg Fragment”. London, 1953.
Wrenn Ch. L., ed. Beowulf, with the Finnesburg Fragment. 2nd ed. London, 1958.
Wrenn Ch. L. Sutton Hoo and Beowulf // Melanges de Linguistique et de Philologie: Fernand Mosse in Memoriam. Paris, 1959. P. 495-507.
Wrenn Ch. L., A Study of Old English Literature. London, 1967.
Wrenn Ch. L., ed. »Beowulf”, with the »Finnesburg Fragment”. Rev. by W. F. Bolton. 3rd ed. London, 1973.
Wrenn Ch. L., ed. »Beowulf”, with the »Finnesburg Fragment”. Rev. by W. F. Bolton. 5th ed. Exeter, 1996.
Распознано по изданию:
Профессор и чудовища: Эссе / Пер. с англ., лат., др.-исл. —
СПб.: Азбука-классика, 2004.
© Н.Горелов, перевод, комментарии, составление, статьи, 2004
© М. Каменкович, С. Степанов, перевод, комментарии, 2004
© В. Пожидаев, оформление серии, 1996
© «Азбука-классика», 2004



